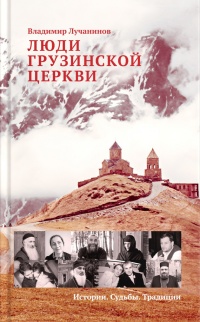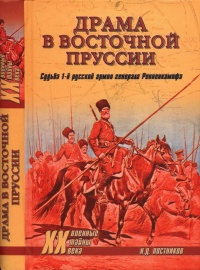Ваши заслуги будут отмечены, можете не сомневаться. (Мур пристукнул каблуками.) А этим славянином мы займемся. Тут ему не Россия. От этих эмигрантов, на которых не скупится старушка Европа, нам, истинным американцам, одно беспокойство.
Я ПРИДУ В ЛУИЗИАНУ!
Под лазарет был занят богатый плантаторский дом с белыми дорическими колоннами на фасаде, владелец которого покинул именье, едва только узнал о приближении северян. Переступившие порог офицеры увидели полный разгром. Освободившиеся черные рабы в мстительном восторге распотрошили ножами мягкие диваны, переломали хозяйские стулья и кресла, повыкалывали глаза висящим на стенах фамильным портретам.
У входа в зал, где положили раненых, Надин повстречала работавшую санитаркой Гарриэт.
— Мисси, баня готова, я истопила, — сказала негритянка. — Можно мыть раненых.
— Хорошо, — ответила Надин, заправляя под косынку выбившиеся волосы.
— И еще я хотела вам сказать, мисси. Нужно сделать баню-прачечную для негров. Отдельно. С юга много бежит к нам народу. Приходят грязные, вшивые. Может вспыхнуть эпидемия. Чистота, мисси доктор, нужна им не меньше, чем хлеб и свобода.
— Хорошо, Гарриэт, я поговорю, — рассеянно отозвалась Надин, озабоченная своими мыслями. Вот уж неделя, как в бригаде работала присланная из штаба дивизии специальная комиссия, знакомясь с бригадными делами. Не только Надин, сам Иван Васильевич голову ломал, стараясь понять, по какому, случаю вдруг проявил Митчелл к нему столь повышенный и столь недобрый интерес, что это означало и что, наконец, совершил он противозаконного?
Женщины посторонились, давая дорогу санитарам. Привычно шагая в лад, они выносили из палаты тяжело провисшие носилки, прикрытые сверху простыней, под которой намечались очертания неподвижного человеческого тела. Свесившаяся с носилок бледная рука случайно задела руку Надин. От мимолетного этого касанья осталось ощущение ледяного холода.
Сопровождаемая Гарриэт, молодая женщина вошла в зал, охвативший ее привычным тяжелым, тошнотворным запахом госпиталя.
Весь пол по обе стороны прохода был завален желтой маисовой соломой, на которой, прикрытые одеялами, в два длинных ряда лежали, а где и сидели десятки обвязанных грязными бинтами мужчин, часто беспомощных, как малые дети. Хорошо знаком был Надин вид изнуренно-серых, страдальческих, часто совсем молодых лиц.
Она постаралась отогнать от себя докучные посторонние мысли и переключиться на заботы и дела, связанные с этой палатой. Прежде всего ее интересовало состояние парня из Айовы, которому вчера ампутировала ногу.
Странным сейчас казалось Надин, что первая операция, в какой пришлось участвовать, могла произвести на нее дурнотное впечатление. Оперировал главный хирург, властный, грубоватый в обращении толстяк с широким, крючконосым, совиным лицом, громогласно отдававший распоряжения помогавшим ему врачам и фельдшерам. Он походил на мясника, доктор Паттерсон: закрывающий грудь и выпуклый живот клеенчатый фартук забрызган кровью, в оголенной по локоть толстой мохнатой руке кривой нож... Одного за другим укладывали санитары на операционную койку раненых — растерзанную, живую, страдающую человеческую плоть, и без устали резал, штопал, латал, чинил ее доктор Паттерсон, отбивая у смерти, а зачастую и безжалостно открамсывал напрочь то, что нельзя уже было спасти.
Случилось, что в общей спешке раненого усыпили недостаточно крепко. Едва острый хирургический нож вошел в тело, чтобы отделить раздробленную руку, как молодой солдат вдруг распахнул глаза и с душераздирающим криком рванулся с операционного стола. От этого вопля над ухом, от вида окровавленных докторских рук и фартуков, от удушливого, сладковатого, мерзостного запаха крови и хлороформа, наполнявшего помещенье, на минуту Надин сделалось нехорошо. (Ничего похожего на то, как препарировали трупы на курсах. О, совсем, совсем не то!)
Неимоверным напряжением воли ей удалось перебороть и подступившую к горлу тошноту, и обморочную томность, разлившуюся по телу, она продолжала делать свое дело (только бы не показать врачам-мужчинам женскую свою слабость!). И все же Паттерсон заметил внезапную ее бледность, рявкнул, злобно сверкнув очками: «Извольте работать, мэм! Мне нужны врачи, а не слабонервные леди!»
А нынче он уж не казался Надин мясником, и, помогая оперировать, она невольно любовалась этими мокрыми от крови, поросшими черной шерсткой, ловкими, артистически работающими руками. Во время больших сражений раненых несли и несли, они лежали, дожидаясь очереди, на земле, на своих же разостланных, пропитанных собственной кровью одеялах, а в колеблющейся светотени старых буков стояли столы хирургов, на каждом был распростерт искалеченный стонущий человек с землистым лицом, и часами трудились медики вокруг столов, забывая о еде и отдыхе. Была среди них и Надин — в таких же красных потеках на клеенчатом фартуке, озабоченная сейчас лишь тем, чтобы то, что делает, получилось у нее хорошо. И, наблюдая ее работу, грозный доктор Паттерсон теперь одобрительно хмыкал себе под нос.
Под взглядами лежавших и сидевших по обе стороны мужчин они медленно двигались по проходу, задерживаясь у каждого раненого, две женщины, белая и черная. Одна — в белой крахмальной косынке, с крутой, девичьей грудью под армейской курткой, статная и женственная. Другая, повязавшая голову синей тряпицей, — ниже ее ростом, сильная, широкая в кости.
Чем ближе подходила она к «своему» солдату, тем слышней становилось громкое, размеренное, клокочуще-хриплое дыхание того, кто лежал рядом с ним. Он был очень плох, этот молодой солдатик, у которого осколком разорвало печень, — Надин поняла с первого взгляда. Не останавливаясь, с тяжелым чувством прошла она мимо. Помощь, видела, была бесполезна: обросшее жиденьким белесым пухом молодое лицо запрокинуто на подушке, пересохший рот приоткрыт, белки закатившихся глаз мерцают под приспущенными веками незряче, отрешенно от жизни. И самое главное — этот знакомый, похожий на всхрапыванье работающей пилы, страшный хрип, к которому с угрюмой робостью прислушивались соседи.
Парень из Айовы лежал неподвижно, накрывшись одеялом с головой, однако не спал: когда Надин осторожно приподняла одеяло, на нее мрачно, с враждебной отчужденностью, блеснули опухшие, красные глаза.
— Как дела? — спросила она, сложив губы в приветливо-бодрую улыбку.
Ответа не последовало. «Он меня ненавидит», — подумала Надин, вспомнив, как по-детски заплакал солдат, когда, очнувшись от наркоза, увидел на месте левой своей ноги ниже колена лишь плоские складки одеяла.
Привычным жестом взяла она руку раненого, стоя над ним. Пульс был почти нормальным — живые толчки под пальцем только слегка частили.
— Все в порядке! — сказала она. — Перевязку делали?
— Делали, — буркнул солдат, глядя вбок, мимо нее.
— Ну теперь все будет хорошо, — сказала она, сама чувствуя фальшь своего тона. — Благодари