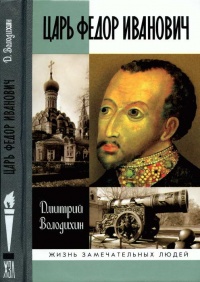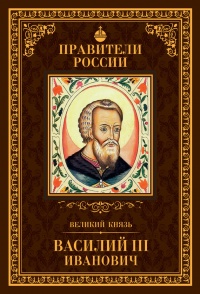И чувство это было взаимным и искренним! И Гумилёв, и Ахматова, вспоминая обаятельные подробности возникновения их любовного романа, рисуют полудетскую идиллию, единодушно обращаясь к трогательным образам наивных античных пастушков, созданных некогда фантазией Лонга:
И делали всё они вместе, стада свои пася друг от друга неподалеку. И часто Дафнис пригонял овец, отбившихся от стада, часто и Хлоя сгоняла с крутых утёсов слишком смелых коз. Бывало и так, что один из них сторожил оба стада, когда другой чересчур увлечется игрою. А игры были у них пастушьи, детские. Хлоя на болоте сбирала стебли златоцвета, плела из них клетки для цикад и часто, этим занявшись, овец своих забывала. А Дафнис, нарезав тонких тростинок, узлы их колен проколов, одну с другою склеив мягким воском, до ночи учился играть на свирели. И вместе, порою, они пили молоко и вино, а еду, что с собой приносили из дома, делили друг с другом. И можно б скорее увидеть, что овцы и козы врозь пасутся, чем встретить порознь Дафниса с Хлоей. Он учил её играть на свирели, а когда она начинала играть, отбирал свирель у неё и сам своими губами скользил по всем тростинкам. С виду казалось, что учил он её, ошибку её поправляя, на самом же деле через эту свирель скромно Хлою он целовал[233].
«Мальчик мой весёлый», пишет, обращаясь к прошлому, Ахматова («В ремешках пенал и книги были», 1912), а Гумилёв говорит о ней, тогдашней, как о «девочке милой и скромной, наклонённой над книгой Мюссе» («Временами, не справясь с тоскою…», 1917).
Что с ней случилось, девочка милая не знала, ведь выросла она в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слова «любовь». Томилась её душа, взоры рассеянно скользили, и только и говорила она, что о Дафнисе. Есть перестала, по ночам не спала, о стаде своём не заботилась, то смеялась, то рыдала, то вдруг засыпала, то снова вскакивала; лицо у неё, то бледнело, то вспыхивало огнём («Дафнис и Хлоя»).
Разумеется, эпоха декадентства вносила свои стилистические коррективы в эту пастораль. Понятно, что после «тайно-тревожных поцелуев» у ночного Карантинного кладбища Ахматова полагала, что знает о роковых страстях решительно всё, а Гумилёв хотел видеть свою подругу не иначе, как «радостною Евой для грядущих поколений» («Разговор»). Повинуясь куртуазным правилам символистов, он сочинял для зимних вечеров в доме Шухардиной волшебные истории. Он рассказывал, как некий гениальный скульптор изваял для знатного флорентийского вельможи статую дамы, любовь к которой стала единственной властительницей души могучего владыки. С раннего утра до поздней ночи с рыданиями и вздохами склонялся несчастный влюблённый перед недвижной статуей, и великая любовь сотворила великое чудо:
– Однажды, когда особенно чёрной тоской сжималось сердце вельможи и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя…
Провожая гостя в тёмных сенях, заставленных ящиками и мешками для переезда, Ахматова вдруг спохватилась:
– Кажется, я потеряла кольцо… Посмотрите там, на полу, не видите?
Гумилёв едва наклонился, как её кисть, скользнув ему по лицу, на миг задержалась у губ.
– Нет, верно кольцо закатилось куда-то… Но чем же кончилась история вашего флорентийца?
– Лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, – отвечал Гумилёв, – и он стал сильным, смелым и готовым для новой жизни. А статуя так навечно и осталась с протянутой рукой[234].
По всему Царскому Селу насмешливо судачили, что младший сын почтенного Степана Яковлевича Гумилёва превратил одну из комнат дома на Средней улице в какое-то морское дно, изобразив при помощи гимназического приятеля-художника (В. Н. Дешевова) на всех стенах водоросли, лилии, раковины и – бледную ундину, имевшую несомненное портретное сходство[235]… Все эти забавные «декадентские» детали никак не нарушают общую картину полного благополучия влюблённых в первые месяцы 1905-го года.