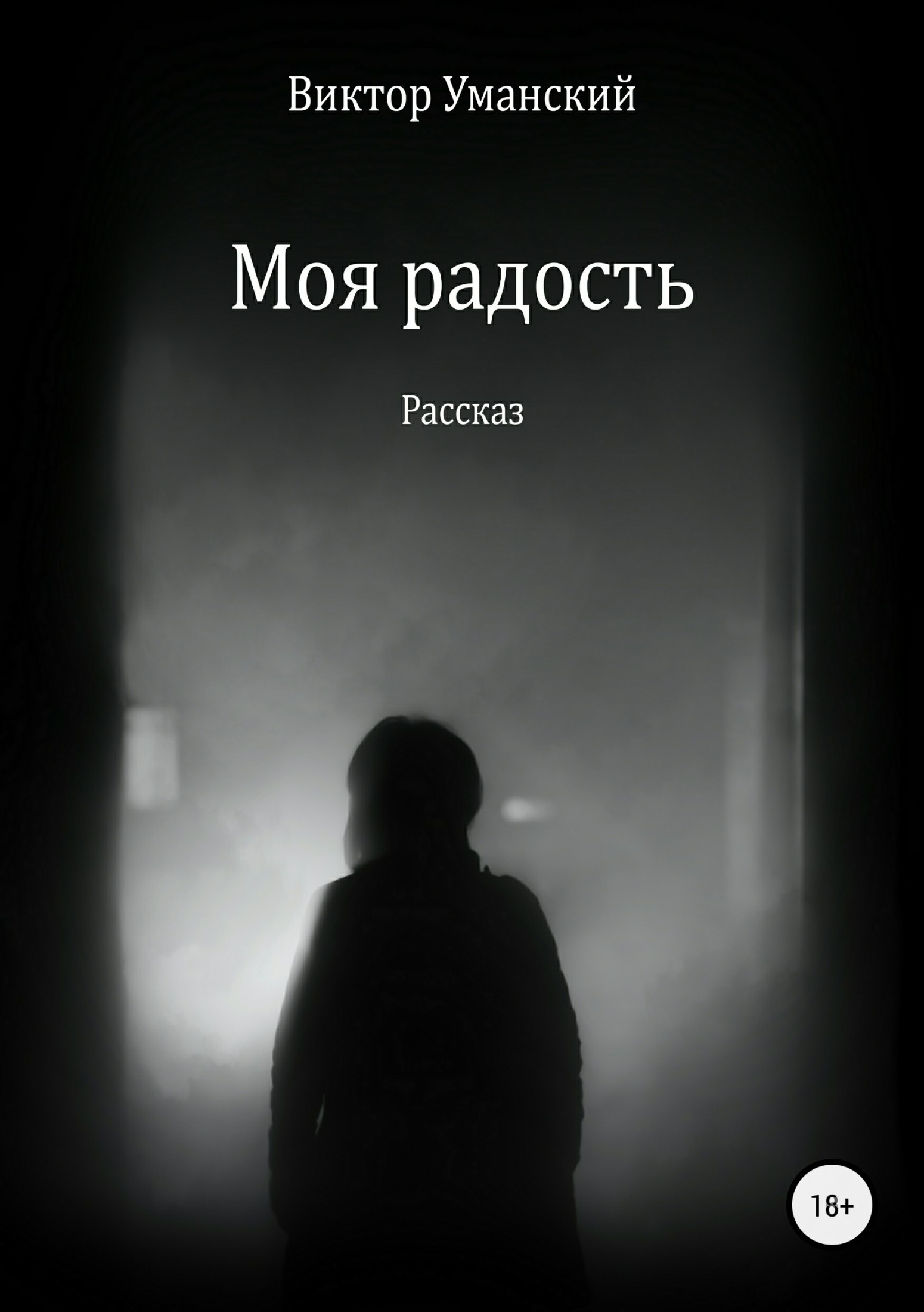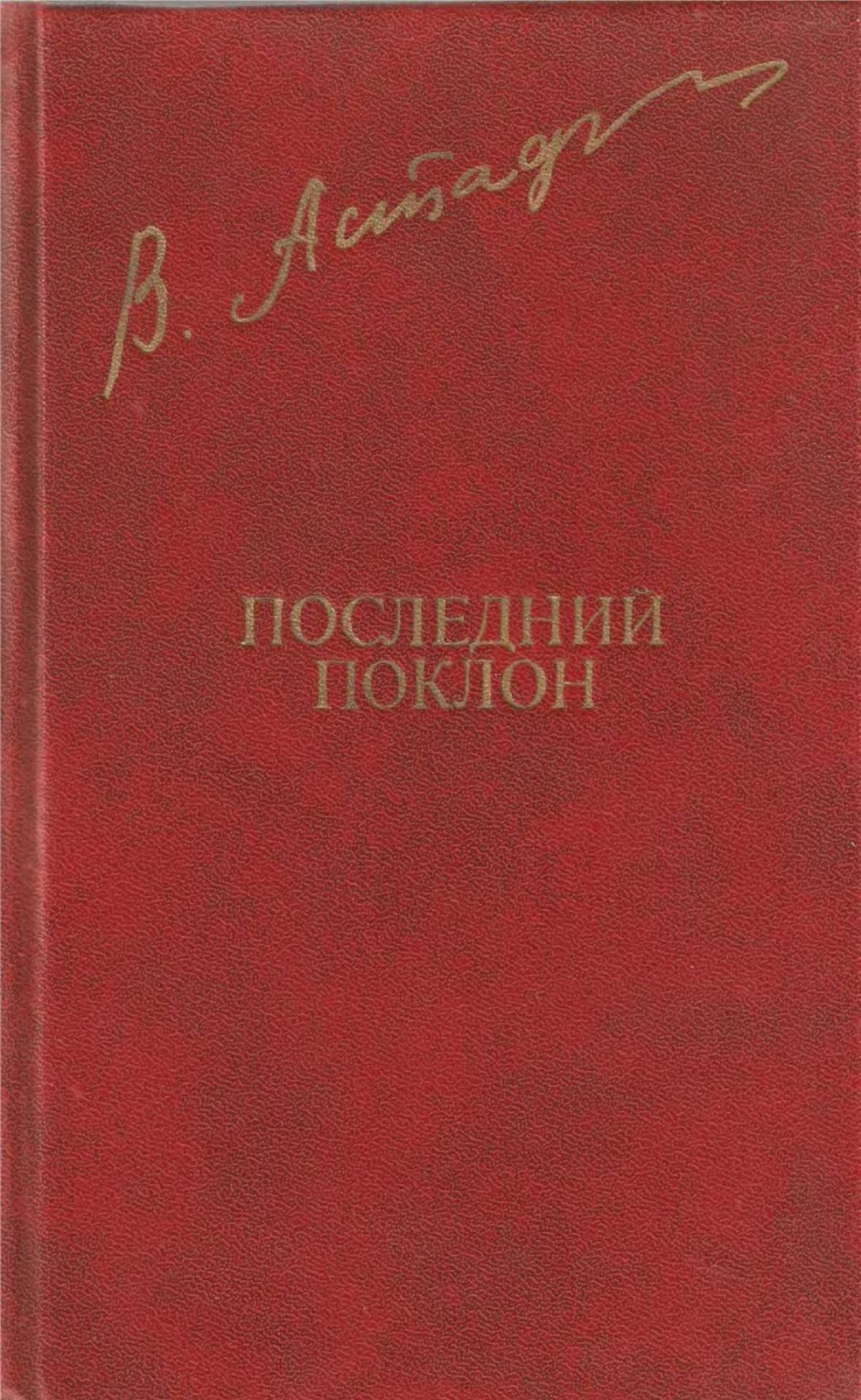как это часто бывает у солдат, о том, что в конечном счете решило успех войны.
— Я думаю, ледовая дорога главное дело сделала, — убежденно заявил ленинградец. — Если б не она…
— Это верно, — поддержал его тот, что с Северо-Западного. — Но самое трудное сражение все-таки за столицу было. Вопрос как стоял? Или — или. Немец все силы собрал. Малейшая наша оплошность смерти была подобна. Согласны?
— Согласны.
— А вот всей этой битве одна высшая точка была.
— Какая же?
— За Наро-Фоминском. Там наш батальон выздоравливающих стоял.
Все опять рассмеялись.
— Вы не смейтесь, верно говорю.
— Батальон выздоравливающих? Сколько же было вас там, калек?
— Сколько бы ни было, а немец как раз тут и насел.
— И что же?
— Одни танки под рукой оказались…
— Ничего себе «одни»! Насмешил, нарофоминец, ну насмешил! Мы у себя месяцами танков не видели.
— Вы торопитесь: танки-то были фанерные.
Все с недоумением поглядели на нарофоминца.
— Фанерные?..
— Ну да, учебные.
— Вот оно что… — протянул усач. — Чего только не было на войне! Ну и как же вы?
— Сейчас самому даже не верится. Позатолкали друг друга в люки, скрипучие башни кое-как развернули и сидим.
— А он?
— Вот тут-то самое удивительное и началось. Не расчухал он, что фанера. Не уложилось у него. Раз десять на нас в атаку ходил и в самый последний момент откатывался: думал, психический бой навязываем. А мы только стволами шевелим, будто поближе подпускаем, чтобы прямой наводкой. Сами ни живы ни мертвы. Буквально ни живы ни мертвы, слышите?
— Трудно и представить, верно слово, — подал голос старик. — До вечера продержались?
— До утра даже. А утром настоящие подоспели. Командир-танкист шлем перед нами скинул, когда узнал, кому на смену пришел.
— Что ж, вы и впрямь молодцы, — сказал старик.
— А вы, папаша, где воевали? — обернулся к нему Семагин.
— Я далеко был в то время. Мы только-только двигались к фронту. Торопились, но дело медленно шло.
— Сапер? Артиллерист? Или царица полей? — снова спросил Семагин.
— Интендант.
— А… — понимающе протянул Семагин. — Ну что ж, и это неплохо.
Интендант промолчал.
— Каждый род войск на войне главным себя считает, — вставил слово усач.
— И интенданты? — вырвалось опять у Семагина.
— Без них тоже не сахар, — поддержал усача нарофоминец.
— А что, пожалуй, вы правы, — сдался Семагин, — Если была б горилка, мы бы и за интендантов выпили.
Он сказал это так, что интендант все-таки уловил намек: самый главный тот, кто идет в атаку. Все остальное постольку поскольку. Он и не спорил. Сидел в уголочке и внимательно слушал, как другие Москву и Питер от немца отбивали.
Уже почти под утро угомонились солдаты. Погасили верхний свет, чтобы вздремнуть часок-другой.
В наступившей полутьме возился только один старик интендант. Семагин, закуривая последнюю папиросу, вдруг увидел, что тот отстегивает от ноги протез — высокий, намного выше колена. Отстегнул, отдышался и тоже стал укладываться, тяжело опираясь то о полку, то о столик, по которому катались нетронутые лимоны.
— Вам помочь? — вскочил со своего места Семагин. — Что же вы не сказали?
— Нет, нет, дело привычное. Интендантское, — без всякой тени упрека вздохнул тот.
И снова начался приумолкший было разговор солдат. Двое спали. Двое разговаривали.
— Так вы действительно интендант?
— Самый настоящий.
— А где же вас так?
— Под Москвой.
— Вы же сказали, медленно дело у вас шло.
— Успели все-таки. Последние сто верст на своих на двоих. Эшелон разбомбило, но мы успели. Это я теперь не ходок, а тогда шагал будь здоров.
Старик помолчал и тоже закурил.
— А у меня к вам просьба. Можно? — сказал он тихо.
— Конечно…
— Им не будем все растолковывать, — кивнул он на спящих. — Ну, безногий и безногий. Не люблю я раны свои считать. Одним словом, между нами. Договорились?
— Договорились.
— Я нарочно встану завтра пораньше. Старики вообще рано встают.
Утром все четверо дружно шагали по перрону Московского вокзала Ленинграда.
Интендант шел, чуть отставая от попутчиков, и те совсем не замечали его хромоты. Ее и впрямь трудно было сейчас заметить. Только Семагин знал, чего это стоило интенданту.
СТАРЫЙ ДУБ
Несчастья одно за другим сваливались на плечи старого дуба. Из войны он вышел полным инвалидом — ствол его был исклеван пулями, тяжелая крона, срезанная не то миной, не то снарядом, валялась поблизости комлем книзу, так что издали можно было подумать — растет подле старого новый дуб. Но это только казалось. Скоро листья отшибленной кроны завяли, сделались жестяными и противно заскрежетали на ветру.
Дерево еще продолжало борьбу, как вдруг новая гроза пронеслась над ним. Гроза в полном смысле этого слова.
Среди белого дня небо вдруг почернело, опустилось, загромыхало, и раскроенный надвое могучим ударом ствол стал огромной, расщепившейся почти до самой земли рогатиной.
Эта последняя рана была смертельной, но люди, жившие по соседству со старым дубом и за войну вдосталь насмотревшиеся в глаза смерти, не хотели в это верить. Они притащили проволоку, веревки, жерди, вооружились баграми и лестницами. Дуб обнесли лесами.
Кто-то из суетившихся вокруг него то и дело покрикивал:
— Давай, давай! Спасай вояку!
Кто-то поддакивал:
— Склеим еще, оживет! Ну-ка!
Незнакомый человек мог, пожалуй, подумать, что тут идет строительство силосной башни. Во всяком случае, вряд ли кто-нибудь из посторонних сразу догадался бы о том, что здесь происходит.
Люди, только что вышедшие из войны, сами еще не залечившие как следует раны, боролись за спасение старого дуба, и каждый старался изо всех сил, у каждого был свой план, своя идея.
Пока одни туго-натуго стягивали большие и малые трещины, другие конопатили их, шпаклевали, третьи густо замазывали образовавшиеся швы корабельным суриком, целую банку которого невесть откуда прикатил к дубу бывший моряк Мелентьев.
Но, несмотря на все это, раненый все-таки умирал…
Казалось, уже никто и ничто не сможет ему помочь. Он, вероятно, так и ушел бы от нас — тихо и бесследно. Распилили бы дуб на дрова. Постепенно все трудней и трудней было бы повстречать в этих краях человека, помнившего историю старого дуба.
Только удивительно мудро и тонко кое-что устроено на нашей земле.
Проснулся я как-то утром, подошел к распахнутому окну и вижу: под искалеченным дубом ходит мальчишка — лет семи-восьми, не больше. Босой, оборванный, чумазый. Ходит, нагибается, что-то собирает в траве.
— Эй, приятель, что ты там ищешь?
— Желуди.
— Желуди? Зачем тебе?
— А так… Может, завтра в школу снесу…
Пока я спускался, чтобы поговорить с ним, его и след простыл.
В глубокой задумчивости стоял я под деревом, гремевшим над моей головой красной жестью