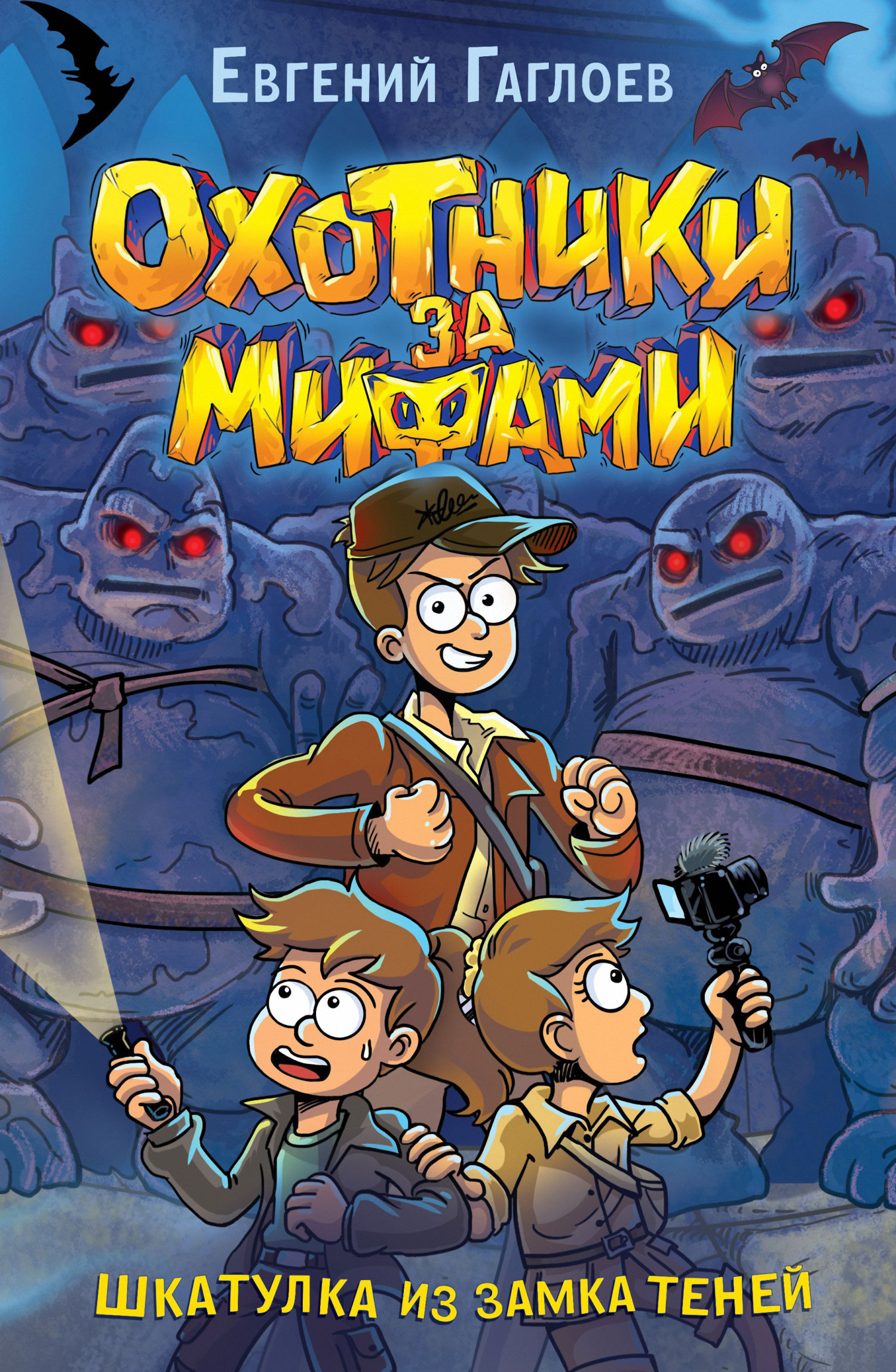платья. Такие же мальчишеские рубашки и брюки. Их фигуры мелькали то тут, то там.
И Маришка почти кожей ощущала… исходящее от них счастье. Свободу.
«Спасибо», – хотелось закричать ей.
Но надобно было беречь дыхание.
Они её послушали. Наконец ей поверили. И Маришка чувствовала нутром эту… лёгкость. Прощение. Оттого, что больше не нужно держать на них зла. Зачем? Ведь они… они заблуждались.
Но разве сама она не ошибалась никогда?
Маришка простила их. Всех разом. Вот так. И Варвару даже. И даже… Володю.
Раны от утренней трёпки больше не беспокоили.
Под ногами поскрипывал снег. Было холодно. Пустошь впереди казалась бескрайней.
Но она не была ни страшной, ни тёмной. Всё это приютские оставили позади.
Серое небо отражалось в белеющей под туфлями пороше. Было даже как-то светло здесь, вокруг. Только стыло.
Ветхая приютская обувка быстро вымокла. Пальцам на ногах сделалось больно. От ударов об промёрзшую землю, от покрывающихся коркой чулок.
Она не ведала, сколько же они пробежали прежде, чем на кромке горизонта показались деревья. Воздух обжигал лёгкие, под рёбрами ныло. Темнело в глазах.
А Ковальчик всё равно почему-то казалось, будто ещё чуть-чуть и она сможет… летать!
Голоса вокруг шептали: «Беги же! Беги!» – и Маришка послушно бежала. Мчалась на всей скорости, которую способны были выдать собственные ноги.
И была такой… свободной.
Наконец они замедлились. Но лишь тогда, когда Володя обернулся – и Маришка следом за ним, – а за спиной не видать было уже тёмного силуэта усадьбы. Позади была только пустошь и ничего больше. Не было даже рвано двигающейся фигуры Терентия.
И всё же она оказалась не такой уж огромной – по эту сторону от усадьбы. Эта пустошь. Должно быть, их привезли сюда какой-то другой дорогой.
– Ты погляди, здесь ни одного деревца на столько-то аршин вокруг. – Настя прижимается носом к стеклу омнибуса.
– А вот и неправда, – засмеялась Маришка. – Это-то тогда что?
Они оказались в небольшом перелеске. Деревья стояли здесь редкими и невысокими. Совсем голыми – так ведь близилась зима.
Володя опустился на землю у самых корней. Сипло дыша, отчего-то улёгся прямо на живот. Маришка опустилась рядом, недовольно подметив, что земля совсем ледяная. Они, должно быть, простудятся после такого долгого бега.
Девчонка надеялась, что им не придётся долго рассиживать. Впереди ждали столичные ярмарки, расписные ирии, глиняные свистульки, будущее, спокойная сытая жизнь вдали от казённых домов.
Но Володя, казалось, окаменел.
Маришка глядела на тёмные разводы на рукаве его коричневой рубахи. И хмуро думала: «Учитель переусердствовал с розгами».
Ей хотелось дотронуться до его руки. Быть может, погладить даже, но то было совсем неприемлемо. Верно же? Вдруг он подумает, будто она в него влюбилась?
– И что с того? – фыркает Настя.
Маришка смущённо улыбнулась.
А затем рука потянулась к нему сама собою.
Но так и повисла в воздухе.
Только теперь приютская заметила, как громко и надсадно было Володино дыхание. Оно тревожило тишину, казалось, вся округа могла его слышать.
Маришка сдвинула брови. Это было нехорошо. Верно, надобно им передохнуть. Придётся устроить привал подольше.
Вот только холодно было до невозможности, и от мороза клонит в сон.
«Нельзя спать, ты же замёрзнешь», – одёрнула себя приютская.
Она посмотрела в бледное Володино лицо. Скользнула взглядом по тёмным бровям, закрытым глазам и длинным ресницам. По мелкому шраму на губе.
Он выглядел совсем измученным. Ему… ему надобно дать время, чтобы передохнуть. Да-да. Так будет лучше.
Ветер захрустел мёртвыми голыми ветками. Перелесок зашевелился, растревоженный ледяным дыханием подступающей зимы.
Маришка задумчиво похлопала себя по карманам.
«Ага, не забыла!»
В кармане подола, разумеется, лежал её дневник, заложенный карандашом. Ведь Маришка всегда и везде носила его с собою, старалась, по крайней мере, после того самого случая, когда Володя…
Она тяжело вздохнула.
«Нет, Володя достаточно уже настрадался…»
Маришка заправила за уши волосы и раскрыла тетрадку. В тусклом ночном свете и без того видно было из ряда вон плохо, а ещё эта тень от деревьев.
Приютская покосилась на цыганского мальчишку. Нет, она его не оставит.
Маришка придвинулась ближе, чтобы бедром касаться Володиного плеча. Пускай лишь немного, но всё же она его согреет.
Сощурив глаза, она принялась строчить, едва различая на бумаге собственные слова.
Пальцы немели от холода. Карандаш громко корябал тетрадный листок.
«Ничего. Ничего, только не спать».
Ветер баюкал голые ветки над её головой.
Время от времени приютская дышала на руки – старалась хоть немного их отогреть. И всё же, в конце концов, писать сделалось невозможно. Слишком зябко. Слишком тёмная от дерева тень.
Дневник пришлось отложить. Он аккуратно погрузился в чистую снежную гладь, словно в тайник. Маришка и не заметила, как уголки дневниковых страниц мигом потемнели от влаги.
«Как же спать охота…» – она зевнула. Широко и некрасиво.
Настя рядом закатила глаза. Ох, все шесть… Ну и странно:
– Тут же Володя, ну что ты, Маришка…
Ничего же с ней не станется, ежели она полежит всего минутку?
От бега у неё ныло всё тело.
Маришка обняла себя руками, откидываясь на припорошённую снегом землю. Перед глазами застыл купол прекрасного тёмного неба.
Серые снежные хлопья опускались на Маришкино лицо. Обжигали лоб и щёки. Почему снег может быть таким горячим?
Плечо приютской прижималось к Володиному плечу. То было едва тёплым и твёрдым.
«Ещё минутку – и точно пойдём», – пообещала себе Маришка, бросив взгляд на приютского.
И снова глаза её вернулись к небу. Ночное, оно было особенно красивым. Маришка любила ночь. Время, когда с ней не происходило ничего плохого.
Когда она делала, что желала.
Думала, о чём желала.
Предавалась мечтам, и некому было её за это корить.
– Ночь грядёт, глаза смыка-а-я, – нараспев прошелестела Маришка, снова скосив глаза на Володю. Ему понравится, как она поёт?
Потрескавшиеся, онемевшие от холода губы едва шевелились. Но она того не замечала:
– «Засыпай скорей», велит.
Настя прислушивается к её пению, а затем вдруг говорит:
– Ты сама её придумала? Звучит хорошо. Не думала о том, чтобы стать поэтессой?
Маришка вспыхивает:
– Ох, нет. Это… это мамина. Она мне её пела, когда… когда мы встречались в городе.
– Правда? Милая, но разве у тебя есть мама?
Маришка придвинулась ближе к приютскому, желая хоть немного согреться. Его тело было таким неподвижным.
– Мягкими руками… – она запнулась. Уставилась в небо, борясь с наливающимися тяжестью веками.
Оно ободряюще подмигивало ей звёздами. Холодный и далёкий блеск. Как круглые камушки краденных у Нежаны бусиков.
Уголки губ слабо дёрнулись. И она велела себе продолжить: