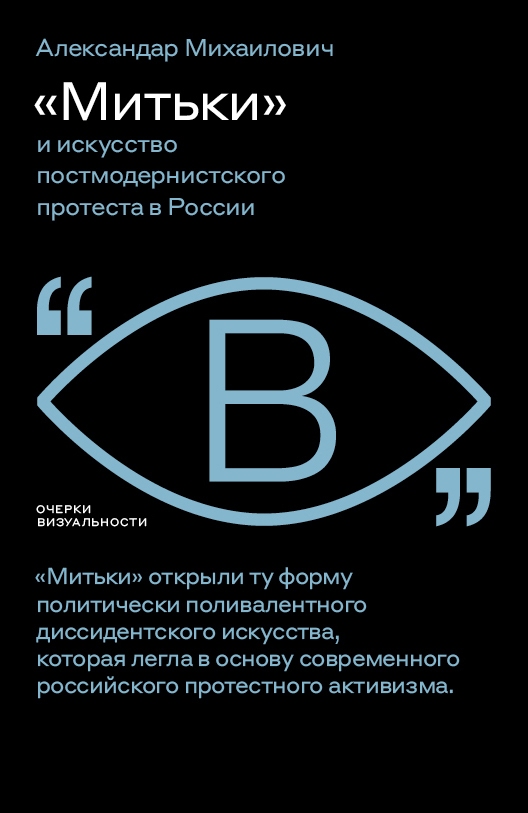другое. Он, например, вспоминает, как вернулся после войны в родное местечко и обнаружил, что синагогу превратили в пекарню. Описание пространства синагоги у Кановича напоминает – в уменьшенном, но не менее значимом виде – описание, которое мы находим у Дер Нистера в «Семье Машбер». В романе Дер Нистера воздух старой синагоги насыщен молитвами набившихся в нее людей. У Кановича, подобным же образом, синагога является «не местом, а вместилищем – бесплотным и осязаемым одновременно» [Канович 2007]. Герой повести Ицхак Малкин вспоминает, как нашел в синагоге талес и произнес кадиш по убитым евреям своего местечка. В то же время его друг, который сидит с ним рядом в «парке забытых евреев», видит во сне похожий момент после войны, когда вся их рота начала произносить кадиш по погибшим товарищам-евреям. Совпадение сна и воспоминания, в структурированной форме литературного нарратива, преображает место – общедоступный сквер в Вильнюсе – в еврейское пространство.
В этом постсоветском произведении автора особенно занимает вопрос о месте и увековечении памяти. Он скептически относится к тому, что советская власть присвоила себе монополию на память. В описанной выше сцене герой обнаруживает, что, помимо молитвенных покрывал, в синагоге не осталось ничего – только галоши сторожа. Он с горьким юмором воображает себе, как выглядели бы эти галоши в качестве музейного экспоната: под толстым стеклом, с табличкой «Обувь евреев в буржуазной Литве». Воображаемый музейный экспонат служит укором советской власти, которая не смогла должным образом почтить память евреев, погибших на советской территории в годы немецкой оккупации.
Однако Канович критикует не одну только советскую власть за то, что она неправильно распоряжается памятью. В другом эпизоде в Вильнюс приезжает американский профессор, чтобы снять фильм про евреев Восточной Европы. Ицхаку претит само понятие ностальгического туризма. Он не считает, что его жизнь нужно записывать на пленку: «Ицхак не верил ни в пользу, ни в необходимость каких-либо свидетельств в мире, где свидетельства можно купить и продать». Возражает он и против съемок фильма. Американец хочет поставить фотографию Ицхака в молодости, во время поездки в Париж вдвоем с женой, рядом с фотографией старого Ицхака в Вильнюсе. Тот отказывается брать за это деньги: «Или вы просто пришли ко мне, как на могилу? Возложете по цветочку и уедете в Нью-Йорк». Сосредоточенность на начале (1920-е) и конце (первые годы XXI века) как бы вычеркивает весь советский период и его особую еврейскую культурную формацию. Однако Ицхак не хочет становиться объектом чужого ностальгического туризма. Не хочет быть умершим местом на истоптанном пути, где есть и другие привилегированные места памяти, в банальном турпакете под названием «Евреи Восточной Европы». Ностальгический туризм предлагает туристу симулякр аутентичного опыта; уникальные и сокровенные контуры чужой жизни он превращает в потребительский и в итоге мертвый объект[237]. Противостояние Кановича и визитера заставляет вспомнить сцену из «Впечатлений от путешествия по Томашовскому уезду в 1890 году» Переца. Перец пытался собрать сведения о евреях из польских местечек и в опубликованном по результатам поездки труде вспоминает эпизод, где роли меняются. Информант начал сам задавать ему вопросы, пытаясь выяснить, зачем он, собственно, приехал. Собеседник Переца намекает на то, что интервьюер от этой поездки выигрывает больше, чем информанты – это своего рода еврейская компенсация. В пояснение он рассказывает притчу: отмечая годовщину материнской смерти, ассимилированный немецкий еврей идет в ресторан и заказывает там кугель. «Кугель – это его иудаизм. Может, ваш иудаизм – всякие россказни.
Для вас это годовщина смерти?» [Peretz 2002: 78]. Американский визитер в повести Кановича тоже приезжает в Вильнюс как бы отметить годовщину смерти. Однако герой Кановича отказывается играть предписанную ему роль, становиться достопримечательностью на маршруте, посвященном оплакиванию еврейского наследия: вместо этого он крепко держится за непредсказуемые извивы собственной памяти и собственного искусства повествователя.
Шмуэль Гордон: прочтение советского пространства по-еврейски
Путевые очерки Гордона, впервые опубликованные в журнале на идише «Советиш геймланд» в 1960-е, были включены в сборник «Фрилинг» («Весна», вышел на идише в 1970-м) и в 1976-м переведены на русский под названием «У виноградника». Они посвящены послевоенным поискам признаков жизни в местечках украинской Подолии. Шмуэль Гордон (1909–1998) родился в Литве, детство провел в детских приютах в Украине, закончил отделение идиша Московского педагогического института[238]. Литературную карьеру начал с публикации нескольких стихотворений в конце 1920-х годов, а в следующем десятилетии стал известным автором рассказов и документальной прозы. В годы войны служил в армии, работал в газете Еврейского антифашистского комитета, в результате чего был арестован и пробыл в лагере до 1953-го – года смерти Сталина. Как отмечает Эстрайх, в послевоенные годы Гордона активно печатали в русских переводах: более семи книг большими тиражами. Например, сборник 1976 года, куда вошли путевые очерки, вышел тиражом в 100 тысяч [Гордон 1976]. Но самое примечательное литературное достижение ждало Гордона уже после смерти: публикация в 2003 году в Израиле его романа «Ицкер» («Памятник»), монументального произведения, посвященного писателям на идише, убитым в 1952 году. В описании ложных обвинений, выдвинутых против него и других членов Еврейского антифашистского комитета, Гордон основывался на собственных лагерных записях, дополнив их архивными разысканиями уже в период перестройки[239].
В своих путевых очерках Гордон одновременно и идеализирует местечко, и прославляет советско-еврейский образ жизни в послевоенный период[240]. В них, по сути, предложен маршрут путешествия по местам еврейского наследия в России: история катаклизмов организована в последовательный сюжет, текст пропитывают подлинность, искренность и симпатия. Упор на преемственность и прославление повседневной жизни лежит в русле ценностей советской послевоенной «культуры два», описанной Паперным: жизнерадостная борьба за построение социализма, которой пронизаны будни, романтика того, что любой рабочий может стать героем социалистического труда, а любой день является особенным – например, Днем железнодорожника, который в путевых очерках Городона о местечке занимает особое место. Чередование будней и праздников у Гордона показано в советском разрезе.
В первом рамочном очерке «Меджибож» нарратор оказывается на автобусном вокзале, смотрит на прикрепленное к стене расписание и обнаруживает, что читает вслух славянские названия местечек, «которые я с детства считал исконно еврейскими, и из них перечислю ближайшие и особенно дорогие: Погребище, Тетиев, Полонье, Брацлав, Острополье, Любарь, Шполье» [Gordon 1970: 390]. И действительно, названия очерков в оригинале на идише воспроизводят еврейский атлас из советской географии: «Меджибож», «Деражне», «Погребище», «Дер уманиер цуг» («Поезд в Умань»), «Казатин» и «В Тольятти». Умань, где похоронен р. Нахман Брацлавский, с XIX века и по сей день оставалось местом паломничества; в «Семье Машбер», где действие происходит в