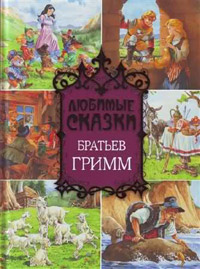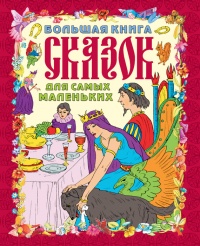говорит. И пошол мужик. Приходит к своей фатерки — окошацька у них были по края земли — в окошацьки посмотрил: спит там женщина, два молодця по сторону, по другу. Вынимаэт он саблю, хоцет им голову отсиць. Думал, думал, подумал — говорил ему купец: «Замахнись, а не ударь». Замахнулся, а не ударил и зашол в фатеру. Розбудил жонку со сна, она его не узнала. Он говорит: «Голубушка, какии это у тебя мужики?» Она говорит: «А это у меня сынова». — «А гди же у тебя мужик?» — спрашиваэ. А она и начала росказывать, как было прежде, куды мужик ушол. А вот ёна ему и россказала, как было прежде-то. «А вот я, ска, от мужа беременна осталась, сыновей принесла». Ну, тут ей и говорит: «Я твой муж, ты моя жона». Потом у отця сделался бал, и назвали гостей оцень много, а сына не зовёт (двоих взял, а того не берёт, бедного не берёт). Потом приходит он к царю, к отцю на бал, камень самоцветный понёс; отець его и принял (уж гостиньця принёс так), нижа всих его и посадил, потом вси хвастают, хто цим може. Он говорит, этот бедный-то: «Што, — говорит, — хвастать: я на лёв-звере езжал и то не хвастаю». По домам розошлись ёны. Поутру вставаэт; говорят, што лёв-зверь всю скотину приел, и стали сбираться ёны, што целовика на съедение ему дать надо. Выкинули жеребей, кому ити по жеребью: тому бедному ити. Тот предложил цярю, штобы бочьку вина в полё отвёз и другую пива, и к бочьки зерькала подделали, и тюк верёвок туды. И потом он там прилгал, боцьку подставил противу дуба с зерькалом. Потом сам выстал в дуб, и приходит лёв-зверь. Потом смотрит он в зёрькало, и там мужик видно. И лёв-зверь говорит: «Што ты меня безпокоил? Попал топеря?» Потом, как лапой заденет, по зёрькалу съехал лапой, отшатился от зерькала. «Всё ровно, — говорит, — ты не уйдёшь, давай пиво пить». Потом бочьку вина выпил и заснул спать. Ён и выходит с дубу, его верёвкамы и связал так крепко, што и не розвязал бы. Потом спал, спал, троэ сутки спал и проснулся. «Хто меня связал, — говорит, — розвяжи, — говорит, — боля не приду сюда». Потом мужик скаже: «Если не тронешь меня, так розвяжу». — «Приятель, — говорит, — розвяжи; хвастай сколько угодно, не трону, не приду больше». Друг другу в ноги, да и распростились. Цярь отець ему полцярьсва за то дал, што он избавил всих от смерти. Топерь оны живут хорошо. Там я была, мёд-пиво пила, а по усам текло, в рот не попало. Дали лошадку леденую мни, седло соломенно, плётку горохову, синь кафтан, красну шапку, села да поехала, а птицька крычит: «Синь кафтан». А я думала «скинь», взяла да скинула. «Чорна шапка, чорна шапка», а я думала «цёрта»; взяла тую и выкинула. Приежжаю, байна горит, и давай, вышла сверьху, байну гасить; плётку горохову птицьки росклевали у меня, а седло соломенно сгорело, а конь леденной ростаил. Вот я и осталась ни при цём.
86
Чернокнижник[38]
Досюль жил мужик да баба, а мужик был цернокнижьник. «Старушка, если буду померать, «Одна ль ты в избы», — спрошу, скажи, што одна». Ну, и жили оны пожили. Стал померать и закрыцал: «Одна-ль ты в избы?» Она говорит: «Одна». Потом глядит: у него рука выпала, потом нога, она и на пецьку забралас; ён и скочил, стоячи стал и к пецьки приходит и говорит: «Не уйдёшь». Она возьметь полено, ему бросит в зубы, у него поленья так, что в пыль летят вси; потом поленья перестали; потом она прямо с пецьки соскоцила и в цюлан, цюлан заперла, он в след: «Не уйдёшь». Потом к дверям приходит, давай двери грызть, дыроцьку прогрыз, туды зглянул: старуха там. «Не уйдёшь», — говорит.
Потом погрыз, погрыз и голову запихал. «Не уйдёшь», — ей говорит. Она всех святых помнит там. Давай аща грызть, чтобы влезть туды. Потом седой старицёк приходит в сени и тростью его по спины ударил, ён и упал. Старушки говорит: «Старушка, выходи оттуль, выходи; пойди в деревню на погос, — говорит, — везти найми, а сама не поезжай». Ёна в деревню ушла, охвотников выкликивать стала везти старика. Нашолся пьяныпошка за полштофа его везти. Ну, ему и сделали гроб. Заковали обруцям железныма его, тройку коней впрягли и повезли его, а вёрст трицять до погосту везти его (досюль так жили, это досюлыцина). Мужик полштофа выпил и сел на гроб, да поехал, да песенки еще поёт. Ехал, ехал, кони совсим не пошли, кони с жолтой пеной. У него хмель стал выходить, обруць лопнул, он с гроба вылетел, потом и побежал домой; бежит да слышит: обруци лопают последнии. Церьнокнижьник с гроба встал, крыкнул: «Не уйдёшь». Мужик на коленка и упал, делать нечего, взял, чашу прибрал, на дерево и встал. Глядит: бежит, фурскаэт и на дереви его увидил и рыкнул: «Не уйдёшь!» А мужик одва с дерева не упал. Он и давай дерево грызть, и дерево стал упадать, он за друго поймался мужик, дерево упало, он к вершины махнул. «Не уйдёшь», — говорит. Потом осмотрелся: в другом дереви ён, и давай на одно кряду грызть и к вершины не ходит. Мужик с деревом упал да и в ход, а он там грызёт, слышно, и до деревни недалёко заводит; глядит: он бежит и крыцит: «Не уйдёшь». Потом ригача близко, он в ригачу; только успел убраться: «Хозяин, сбереги», — скае. Ригацник хватит пыльник (камень в ригаче), да его этым пыльником, давай с ним возиться. Один пал в ригачу, другой пал за порог. Потом недосуг мужику, в деревню побежал, потом в деревни объявил, што церьнокнижник в ригачи лежит. Потом пришли артелью, в гроб (так) его клали, да артелью отвезли на погост, в ниць землю, и похоронили его туды.
87
Хлоптун[39]
Досюль жил мужик с жоной и в Питер уехал. Сказали жонки, што помёр; она об нём плацет: «Хоть бы мёртвый, значит, приехал, посмотреть бы». И приезжаэт домой. Она говорит: «Говорили, што ты помёр». «Нет, — он говорит, — соврали так». Да стали оны с ним жить да поживать, ей думаэтця всё, што он мёртвый. В деревни сделался покойник, ей охвота посмотреть,