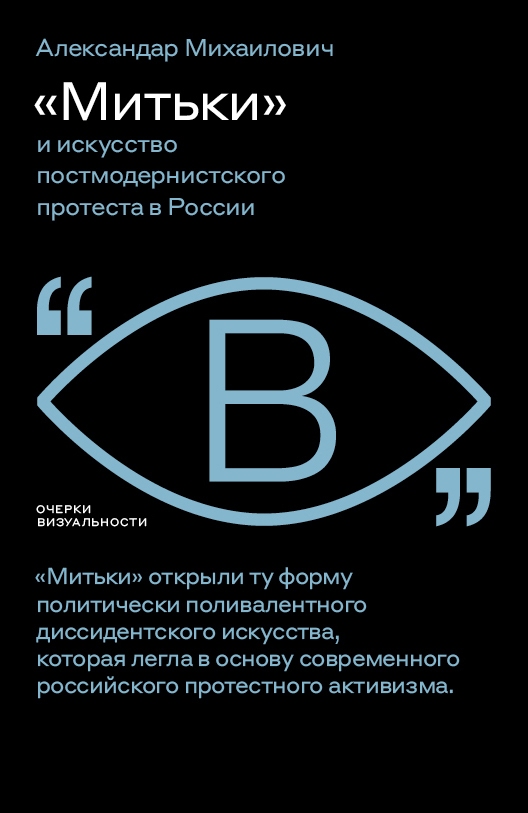Айзик знакомится с человеком, у которого только что умерла жена. Он представляет себе, что использует этот эпизод в сюжете рассказа. Действие будет происходить на закате, тело покойницы будет лежать на полу. Свет заходящего солнца будет проникать в окна комнаты, однако свет окружающих тело свечей будет с той же силой отражаться от окон. У этого слияния света изнутри со светом снаружи есть мистические обертона.
Самая ошеломляюще-эротическая встреча с покойницей происходит под конец романа. К этому времени герой уже уехал из местечка в Киев и больше не соблюдает еврейских традиций. Ему снится, что он оказался в местечке на второй день Рош-ха-Шана. Он стоит на улице и видит телегу, на которой лежит покрытый тканью человек. «Это женщина. Это Поля, но со мной она не знакома. Значит, я – не я» («С’из а фрой. С’из Полье нор мит мир кен зи зих нит. Их бин дох нит их») [Kipnis 1977:452]. За телегой идет человек, похожий на отца героя, но не его отец. Он хочет отогнать этого человека и забрать женщину себе. Ему нравится ее лицо, на котором он читает «отражение множества страданий» («ан опшпиглунг фун а сах лайдн»). Оказывается, что пара направляется в роддом: у женщины тяжелые роды. Действие переносится в баню, однако герою стыдно, он не раздевается. Женщину из роддома тоже привезли в баню:
Она такая живая, юная и красивая. Я вижу ее обнаженной, хотя и знаю, что она мертва, но знаю и то, что предстоит прекрасный обряд омовения мертвых. <…> Я чувствую к ней влечение, мужское влечение. <…> Мне приходит мысль омыться с нею, и тогда, может, нас похоронят вместе.
Зи из азой лейбик, юнг, ун шейн. Их зе зи а накете, хоч их вейс, аз зи из тойт, везт зих аройс, аз с’из геблибн а шейнер минхег тублен ди тойте. <…> их фил цу ир глустунг, менер глустунг. <…> Мир фалт айн а геданк зих тублен цузамен мит ир ун мен вет ундз эфшер цузамен мит ир бахалтн [Kipnis 1977:453].
Сон оказывается пророческим: Поля умирает после рождения их дочери. В романе герой не слишком эмоционально реагирует на это событие, почти не предпринимает усилий, чтобы вернуться домой к родам или к похоронам, и со своим ребенком знакомится только много месяцев спустя[234]. Влечение к мертвой женщине перевешивает в нем привязанность к живой.
Во сне герой видит местечко и женщину, которая умирает в родах у него в комнате на краю города («эк штот»). Место, где находится его жилище, напоминает ему про местечко, про обычные местечковые радости и горести. Жиличка в соседней комнате плачет по ночам, поскольку потеряла мужа, и герой слышит в ее рыданиях желание, жизнелюбие, полноту жизни. В «Унтер-вегнс» местечко оторвано от еврейской священной истории, а вот герой не оторван от местечка, потому что носит его с собой, оно впечатано ему в душу. Это другое, внутреннее местечко – не мертвый груз; оно придает эротизм всему вокруг. Настоящее время романа – это время победоносного воцарения советской власти и переселения героя в современное городское советское пространство Киева. Однако в этом настоящем времени и этом пространстве сохраняется субстрат более раннего времени и иного пространства, бесконечного движения вспять, в котором матка и могила, Айзик и Бузя, желание и смерть, местечко и советский город пересекаются и перехлестываются. Тема несостоявшегося рождения, о котором речь шла в Главе 1 в связи с Бабелем и Маркишем, в полную силу звучит и в произведениях Кипниса.
Советский Бердичев: археология настоящего
Один из самых великих и сложных образов особого еврейского пространства – это панорама Бердичева, «города Н», в «Ди мишпохе Машбер» («Семье Машбер») Дер Нистера – первый том был опубликован в СССР в 1930-е годы, эпоху пятилетних планов и устремленности в будущее. Главы из этого романа и из «На Днепре» Бергельсона вошли в один и тот же номер советского литературного журнала на идише «Советиш» («Советское») в 1935 году. Предисловие к «Ди мишпохе Машбер» открывается словами: «мир, описанный в этой книге, уже исчез без следа» («ди велт вое верт гешилдерт ин дем дозикн бух из шойн шпурлоз фаршвундн»); тем не менее книга, состоящая из двух объемистых томов, причем есть некоторые указания на то, что предполагался и третий, сама по себе – след. Используя пространство иного типа – не маленькое местечко, а настоящий город, Бердичев, и помещая время действия в 1870-е годы, Дер Нистер конструирует еврейское пространство как открытое, подвижное, подверженное катаклизмам перемен. Второй том Дер Нистер посвящает дочери, погибшей в Ленинграде в блокаду, и говорит, что его разбитое сердце стало памятником на ее безвестной могиле. При этом в мире, созданном в «Семье Машбер», нет ничего застывшего или ригидного. Ключевое пространство – порог, пространство изменений. Собственно, и сама фамилия подчеркивает тему перемен: «машбер» означает «кризис» [Wisse 2000:124]. Семейный кризис разражается в ходе столкновения между двумя из трех братьев Машбер: Моше – самым крупным городским финансистом, который терпит банкротство, и Лузи, который становится главой маргинальной секты брацлавских хасидов «города Н».
С развитием сюжета кризис в семье Машбер волнами прокатывается по всему «Н» – или Бердичеву. Назревающая катастрофа угрожает городу не только в его ипостаси земного Иерусалима, но также и в его космически-потусторонней ипостаси Иерусалима горнего. В «Семье Машбер» Дер Нистер куда более открыто, чем Бергельсон в «На Днепре», проецирует «вертикальное, потустороннее» на плоскость обычной еврейской политики тела, особенно в ее карнавализированной, отчетливо телесной форме. Бердичев – место, где желание, процессы еды-питья, пьянство, торговля, духовные устремления, мистические и апокалипсические откровения тесно увязаны между собой. Кладбищенский смотритель продает свой товар с тем же корыстолюбием, что и любой торговец на рынке; глава похоронного общества – «выродок» со сморщенным лицом и голосом новорожденного котенка; кладбищенские носильщики – «полуголемы» [Der Nister 1948: 62]. Моше Машбер, почтенный гражданин и хороший еврей, окружен «гиенами», на которых слово «деньги» воздействует паталогически. У одного из его помощников «набожно-лисье личико» («а фрум-фоксиш понимл») и собачий нюх на деньги. Лузи Машбер, напротив, говорит о великой радости, которая «возвышает и очищает, дарует чудо – старых делает молодыми, а из самой грубой вещи – то, что способно вознестись к высочайшим высотам» («дерхейбт ун лайтерт, шафт вундер – махт фун алт юнг, ун фун дер гробстер зах – аза, вое кон биз дер хехтер хайх аройф-дерланген») [Der Nister 1948: 93].
Как показал Крутиков, и до,