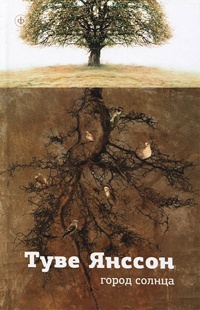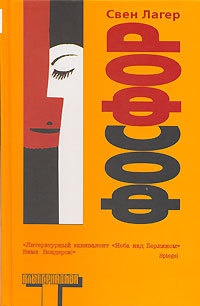– Это долго не продлится. – Онофре обратился к мажордому: – Как у нас со съестными припасами?
– Все в порядке, – уверил тот.
– Дикость какая! – возмутился маркиз. – Сидим тут взаперти, осажденные толпой, – я даже не могу переодеться по-человечески… – Он перевел взгляд на служанку, которая подавала кофе. Девушка густо покраснела и отвела глаза. – Ты не мог бы одолжить мне немного денег? – спросил он Боувилу.
– Сколько хочешь, – ответил тот. – Для чего тебе?
– Чтобы отблагодарить это прелестное дитя, – ответил маркиз, тыкая в сторону девушки большим пальцем. – Да, и вот еще – уволь ее сегодня же.
– Это почему?
– Она в постели ни рыба ни мясо, – заявил он. Онофре Боувила посмотрел на встревоженное
личико девушки. Ей было не больше пятнадцати, и она недавно приехала из деревни, но обладала тонкими приятными чертами лица и хорошими манерами, поэтому ее послали прислуживать за столом и избавили от грязных работ по дому. Онофре знал: исполни он пожелание маркиза, девушку ждет либо бордель, либо страшная нужда.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Одилия, с вашего позволения, – робко проговорила она.
– Тебе нравится служить у меня в доме, Одилия?
– Да, сеньор, очень.
– В таком случае мы поступим следующим образом, – Онофре повернулся к маркизу, – ты сэкономишь на вознаграждении, поскольку тебе не угодили, а Одилия останется в доме и будет получать вдвое больше. Как тебе такой расклад?
Он делал это не из чувства великодушия или благородства и не по расчету, так как не верил в человеческую благодарность. Он лишь хотел дать понять своему гостю, кто хозяин в его доме. Маркиз и он обменялись пристальными взглядами. Маркиз расхохотался. Так незаметно пролетела неделя, фигурировавшая в дальнейшем под названием «трагическая». Они играли в карты и вели долгие разговоры; маркиз оказался приятным собеседником и стал для Онофре бесценным источником новых знаний и фактов: в округе не существовало семьи, с которой у маркиза де Ута не было бы родственных связей и о которой он не знал бы всех интимных подробностей. К тому же маркиз легко делился своими знаниями с Онофре. Для него не было большего удовольствия, чем посплетничать о личной жизни ближнего своего, и он делал это подробно и с блеском. В его изящной ироничной болтовне Онофре отыскивал трещины и бреши, необходимые для того, чтобы потом сделать попытку просочиться в этот непроницаемый мир, покрытый слоем лежалой пыли и тоски, двери которого для него всегда будут закрыты. Иногда после ужина они отправляли мажордома на асотею[88]проверить, как обстоят дела на улице. Если не было опасности, они тоже поднимались на крышу; попыхивали сигарами, потягивали коньяк и, положив локти на балюстраду, наблюдали за всполохами пожаров. Потом, устав от монотонности такой жизни, послали саркастическую записку губернатору: «Положи этому конец – у нас сигары на исходе». Для Онофре это была очень приятная и поучительная неделя, возродившая в нем стремление вновь связать себя крепкими узами мужской дружбы. Однако, вспоминая поведение маркиза на банкете в честь царицы, он понял, насколько тщетны были его надежды.
Над центральным столом висел шелковый балдахин алого цвета, увенчанный гербом дома Романовых, стены и окна салона драпировали такие же портьеры, в каждом углу на подвижных консолях стояли четыре алебастровые скульптурные группы, сделанные специально к случаю. С потолка свешивались шесть круглых люстр с тремя ярусами подсвечников. Кроме люстр и канделябров помещение освещали четыре тысячи восковых свечей, отражавшихся мерцающими бликами в столовом серебре на столах для приглашенных. Стол для почетных гостей был сервирован посудой из чистого золота и севрского фарфора. Глядя на этот блеск, цену которого он слишком хорошо знал, Онофре вспоминал события той трагической недели. Погруженный в свои мысли, далекий от всего, что происходило на празднике, он вдруг услышал грудной бас соседа по столу и вздрогнул от неожиданности.
– Вы думаете о революции, кабальеро? – раздалось рядом, и тут он впервые обратил на него внимание: это был мужчина лет сорока, высокий, худощавый, с грубыми чертами крестьянского лица, впрочем не лишенными своеобразной притягательности. Он был облачен в темно-синюю рясу, делавшую его еще выше и худощавее; от спутанной, доходившей до груди бороды шел резкий уксусный запах, смешанный с запахом ладана и овчины. Судя по внешности и пронзительному горящему взгляду, Онофре сделал вывод, что его посадили рядом с одним из невежественных, диких монахов, отличавшихся, помимо звериной хитрости, мракобесия и фанатизма, еще и подлым угодничеством, которое позволяло им, подобно раковой опухоли, проникать во все клетки властных структур и разъедать их до полного разрушения. Как он потом узнал, монаха звали Григорий Ефремович[89]Распутин, и он пользовался особым покровительством царицы, поскольку мог облегчать страдания больного гемофилией царевича, когда врачи совсем от него отступились. О нем рассказывали удивительные вещи, будто он обладал даром гипнотического воздействия и предсказания, мог читать мысли и творить чудеса. С того времени его влияние пойдет по нарастающей, он полностью подчинит себе двор, превратится в настоящего тирана, станет распределять должности и почести, а потом при одном только появлении его зловещей тени будут складываться и разрушаться судьбы, карьеры и целые состояния; все это будет продолжаться до тех пор, пока заговорщики, возглавляемые тем самым князем Юсуповым, который дегустировал сейчас, сидя за почетным столом в отеле «Ритц», escudella и cam dе опа[90], не расправятся с ним в 1916 году. Некоторое время спустя, как и предвидел Онофре Боувила, разразится революция и положит конец династии Романовых расстрелом в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, но в те дни, когда Распутин сопровождал царицу в ее поездке в Барселону, его звезда только всходила. Сосед Онофре по столу рассказал, что несколькими годами раньше он был свидетелем событий Кровавого воскресенья, оставивших в истории печальный след. Он стоял на балконе второго этажа Зимнего дворца, держа на одной руке еще маленькую великую княжну Анастасию, а другой крепко сжимая локоть царевича. С соседнего балкона великий князь Сергей пытался рассмешить детей и корчил им страшные рожи.
– Распутин, закутай детей, очень холодно, – все время повторял он.
В ту пору великий князь был одним из самых влиятельных в обществе людей и пользовался полным доверием царя Николая II. В феврале того же года анархист Каляев бросил в него бомбу. От кареты, лошадей и великого князя осталась лишь горстка дымящихся обломков. Из окна первого этажа великий князь Владимир, поминутно консультируясь с членами Ставки, отдавал распоряжения войскам.
– Будем действовать тонко, – объявил он. Когда манифестация достигла площади, он велел пропустить ее.