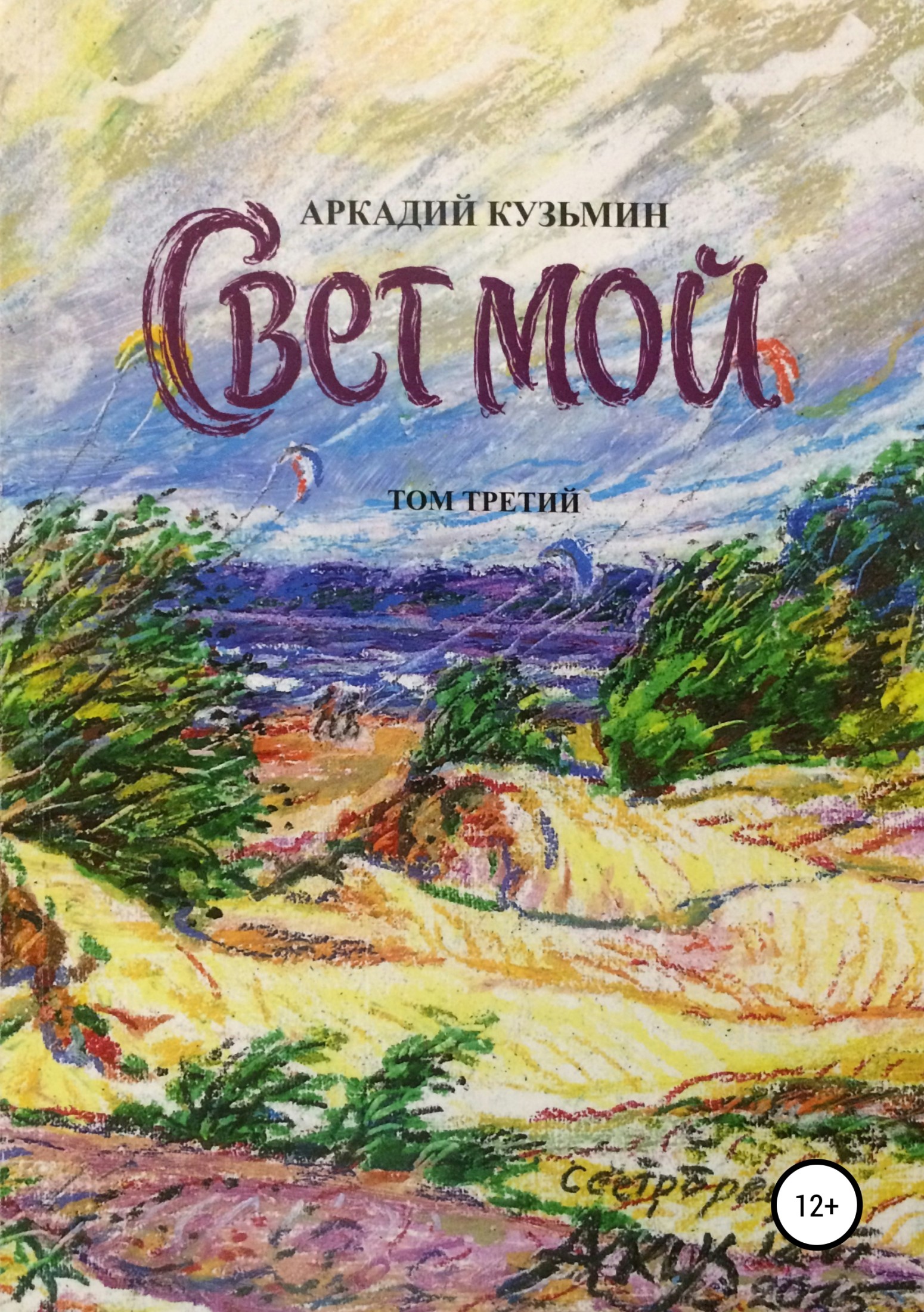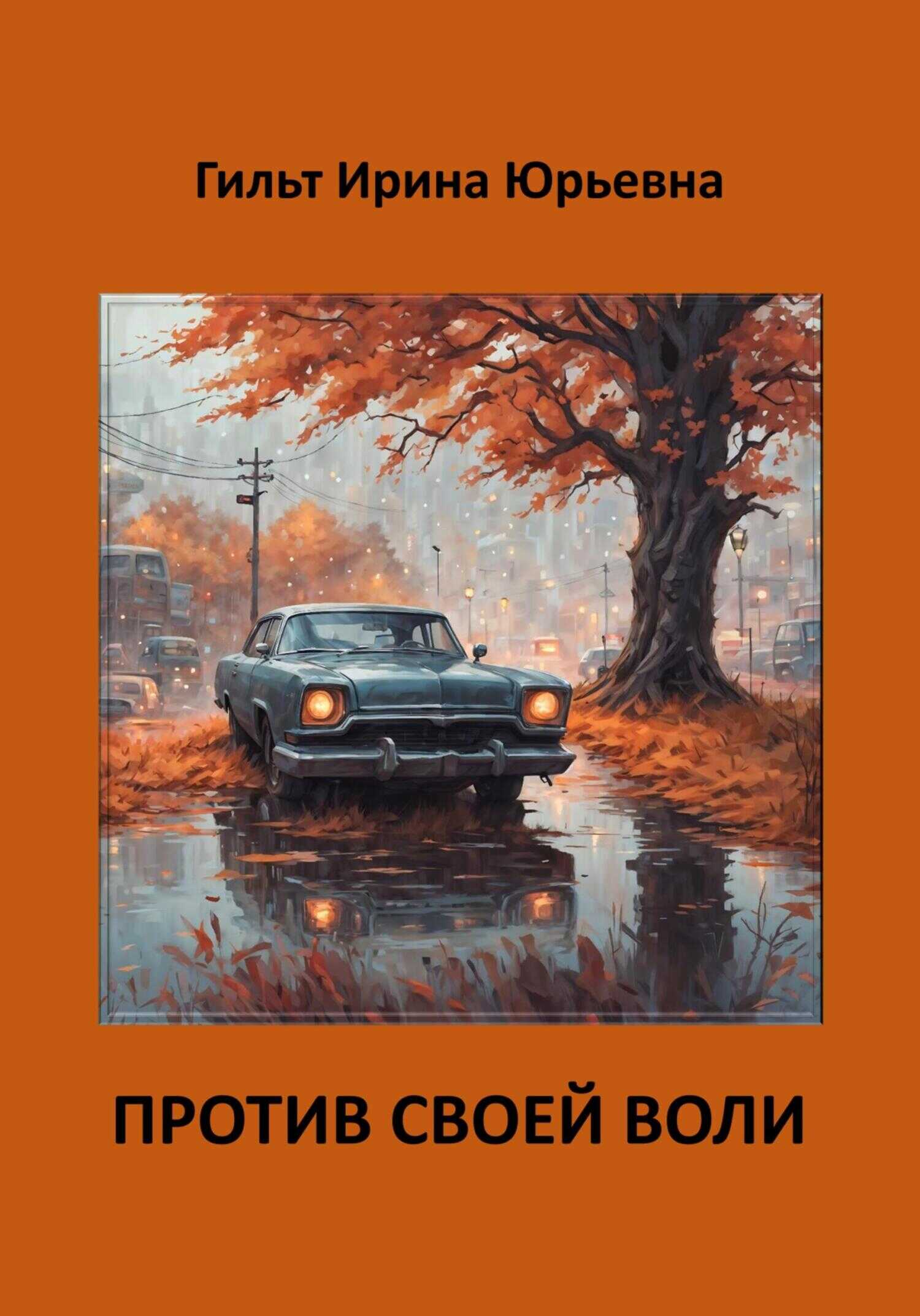груб, хвалится своей грамотностью – семилетним образованием; а когда тот, раздобрившись, взъерошил на голове Антону волосы и еще сказал при этом что-то ему, сказал добрейшим, ласковым голосом, – он очень удивившись, сразу почувствовал в нем отеческую доброту. И тотчас уж ему стало неудобно и стыдно за свои прежние плохие мысли о нем. «Хотя б они только не были им узнаны!» – лишь подумал Антон с ужасным волнением.
Да, безусловно: прежде, чем составить какое-то мнение о ком-нибудь, надо узнать его лучше, ближе. Тогда будет толк. Да это и так и во всем. Однако более других выделился Антоном бело-желтый боец Колодин со стоящими, нерасчесанными белыми волосами, несколько медлительный, с наружным спокойствием, вроде слабый характером (и волей) и несколько неопрятный в одежде, да с приятным с сипотцой голосом, покладистый и вежливый, без смелости и без скольких-нибудь, думалось, дурных суждений о ком-либо или о чем-либо.
Сначала Антон не думал о Колодине ничего особенного. Ничего особенного он не думал и теперь, по прошествии нескольких дней с момента, как увидел его. Но теперь Колодин все больше обликом своим напоминал Антону отца Димы – Урнова, хотя тот был собранный весь, как ртуть. Дима-то как раз был в папу – такой же гибкий, цепкий, тренированный.
Должно быть, Урнов – старший тоже воевать пошел. «Тогда, что же, – у Антона сердце сжалось? Ой-ой-ой! Мы-то все же с матерью… »
Антону не хватало, видимо, бесшабашной удали, отзывчивости Димы – не случайно вовсе, вспоминая именно то, что когда-то жил удалец Дима, он слышал до сих пор Димин заразительно здоровый смех. Здоровый от ощущения своей ловкости, бесстрашия, наверное.
Но так смеялись и бойцы над Колодиным, своим товарищем, завтрак которого они спрятали, пока он дописывал письмо женщине. Он ходил сердитый, а они смеялись весело:
– Лексашка ищет. Свищет.
– Вот чем и хорош русский-то народ. Он по терпению – наш Лексей, братцы; его также трудно раскачать и разозлить по-настоящему. Ну, а если только раскачаешь – будет, будет дел. Запомнишь.
– У него с женою баш на баш: она пишет ему день в день по три письма, и – он по три. У него от этого, небось, затмения. Чуете: уже не реагирует на нас? Никак.
Для Антона эти их товарищеские смешки показались обидным шутовством над человеком, с кем зарождалась дружба у него; тем, что Колодин был какой-то одинаковый, ровный, и, верно, беззащитный еще везде – на службе ли, в жизни ли – тем он как-то и привлекал к себе симпатии Антона. И по-дружески Антону уже захотелось разозлиться за него – не снести насмешек.
Но некоторое время спустя Колодин, совершенно успокоенный, вынул из кармана брюк кисет и обрывок газеты, с щепоткой махорки скрутил, послюнявив бумажную полоску, папироску. И закрутил ее, прижегши немецкой зажигалкой. Широко раскрыв глаза, он выпрямился, откинулся телом на пеньке и так, казалось, застыл неподвижно. Ни один мускул на его лице не шевелился…
Что он, солдат, разглядывал там, в неведомой синеющей дали? Какие же далекие страны и народы? Или, может, видел просто свою спокойную возвращенную мечту, давно поселившуюся над тихой зеленой речушкой в окруженье шумливых березонек, свесивших свои косы, сережки?
V
– Ну, ну, продолжай, – нетерпеливым тенорком своим затем подталкивал Антона в тетиполиной избе, у самого порога, один из них (возник снова разговор про оккупацию). – Ты мне по порядочку расскажи: сперва – про то, какими вы их увидели и нашли.
Дружок его тихонько хмыкнул:
– Какой, погляжу, ты дознавальщик! Высший класс! Что их, фрицев, находить? Разве ж то грибы в урочище? Сами заявились – не просились.
– Как, верно, змеи клубком роились. Я-то не видел их так – во весь рост, вблизи; лишь на дальнем расстоянии – брал на мушку, когда они лезли, ядерные голубчики.
– И не больно сожалей. Мир делается темным, когда они, гады, прут. Не разминешься.
– Но и я тебя не понимаю… Извини.
В полутемном закутке, на кровати, застонав, зашевелилась Маша (к ней Наташа наклонилась), и бойцы у печки еще на полтона снизили разговор:
– Ну так расскажи нам, как они здесь заявились, Антон…
– Днем немецкие разведчики – вдвоем – побывали, – с неохотой сказал Антон, – проскочили на велосипедах, поинтересовались, нет ли вблизи русских солдат, партизан, а потом сплошной стеной пошла вся ударная масса войск.
– Что, входили-то они без боя?
– Без него. Наши уже отошли здесь. – И Антон замолчал.
После всего увиденного на оборонительных немецких позициях за Редькино он мучился более чем когда-либо какими-то неразрешимыми для себя человеческими проблемами, с которыми он столкнулся в одиночку почти (никто ему не мог помочь в этом), и поэтому он, никому не открываясь, становился малоразговорчивым, замолкал почти на полуслов. Личное – все то, что было и случалось с ним, – казалось ему ничтожно мелким, незначительным в такой степени, что ему даже стыдно было помнить об этом, не только еще рассказывать кому-то из взрослых; он жив, здоров (в то время, как те в Редькино, полегли) – какой же разговор может быть! Потому-то он об этом и никому не рассказывал: до того еще не стеснялся и своего, не общего настроения.
– Я не понимаю; что же, силы у нас не хватало? Отдавали территорию…
– Наша-то только задачка – сковырнуть их, гадов…
Теперь братья Антон и Саша, вольные, уходили в овражки, в лесочек, скрывались в воронках и там поджигали стреляющий порох ракеты.
«Стреляющий» порох закладывался в зенитные снаряды; он был такой, что сразу, когда его поджигаешь, он вроде бы не горит, тухнет, но вдруг прыгает, летит куда-то – скачками. Раз в землянке Саша в печку его сунул, смотрит: он уже на постели, опять летит; тухнет – и опять летит. Так четырежды из рук его прыгал.
А как-то набрали они красных квадратиков пороха – полмешка такого пороха притащили из заказника. Не знали, что это взрывающейся в воздухе «М». Саша для пробы насыпал кучечку его на ящик, поднес зажигалку зажженную. В миг порох вспыхнул. Загорелись у него зажигалка, руки, обсыпанные им, как при взрыве; он бегал с горящей зажигалкой (жалко было ее бросить) и горящими руками, пытаясь сбить прилипчивое пламя. И Антон был бессилен ему помочь – растерялся от неожиданности. Это не прошло бесследно: получился у Саши ожог ладоней и он на некоторое время – дня на три – притих со своими буйными фантазиями.
Анна ругалась:
– Глаза б мои не глядели на все ваши проделки! Она поругивала их, как всякая мать, которым дети