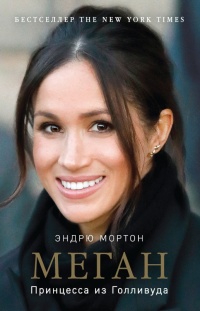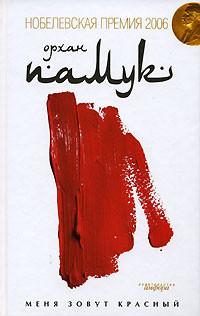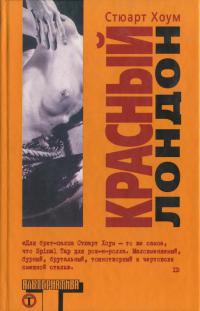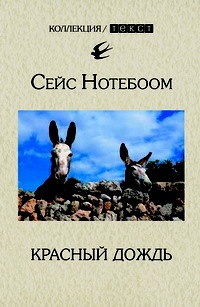Я верил в свою войну. Мы все в нее верили. Если существует такая штука, как справедливая война, то, на наш взгляд, это была именно такая война. Это была антифашистская война. Правда, о некоторых вещах я не писал. Я не писал о расстрелянных пленных. Я не писал о солдатском страхе. Это была самоцензура. — Уолтер Бернстайн.
Голос Америки; голос человеческой надежды и спасения; это голос моей прекрасной, замечательной страны, которая расправится с фашизмом и перестроит мир. Сомнениями в ту пору мы не мучились, никто даже не задумывался над тем, что принесут ближайшие годы. В то время мы просто гордились своей великой и во всех отношениях превосходной страной, так гордились, что нынешнему читателю этого не понять, как бы красноречив я ни был. — Фаст.
Пятнадцать тысяч коммунистов ушли на фронт, выйдя — так постановил ЦК — на время войны из партии: жест лояльности, беспрецедентной до неприличия.
Так что на [последнее перед уходом в армию] собрание ячейки я пришел вроде как гость; типа попрощаться.
В повестке дня был один пункт. А именно: «Что вы сделали для победы за минувшую неделю?» Все говорили по очереди, а я все больше и больше приходил в ужас. Я чувствовал себя несчастным, потому что то, что говорили преданные партии люди, ничем не отличалось от того, что говорили республиканцы и демократы. Они говорили: «Мой вклад в дело победы заключается в том, что я продал на 75 тысяч военных облигаций». Почему бы и нет? Bank of America, конечно, одобрил бы это. ‹…› Из вежливости они спросили меня, что я сделал на минувшей неделе, моей последней неделе в партии. Я сказал, что выступил в «черном» храме на митинге протеста против расовой дискриминации в армии. Об этом партия молчала, потому что шла война против Гитлера, и нам не следовало показывать, что мы страна предрассудков. Так что на последней своей неделе в партии я совершил, с официальной точки зрения, очень некоммунистический поступок. В шуме возмущения, последовавшем за моим признанием, прозвучал вопрос, зачем я вступал в партию, если не желаю подчиняться дисицплине. Я ответил, что вступал изначально, потому что компартия страстно желала и старалась делать то, чего не делал никто другой, непопулярные и смелые вещи. Я вступал в такую партию. Я сказал: «Мне сейчас кажется, что я нахожусь в каком-то драном загородном клубе, а не в кругу коммунистов». — Брайт.
Во время войны компартия была патриотичнее всех остальных — настолько, блядь, патриотична, что мы не протестовали ни против интернирования японцев, ни против преследования троцкистов на основании закона Смита. Да, мы были самым что ни на есть мейнстримом. — Джаррико.
Акцент, который партия делала на усилиях во имя победы, был фальшив, поскольку игонорировал важнейший аспект войны — защиту империалистических интересов США и Великобритании. ‹…› Филип Рэндольф, великий черный лидер, почувствовал, что пришло время для протеста против дискриминации черных в армии, и организовал гигантский марш на Вашингтон, к дикой досаде Рузвельта ‹…› марш похерили благодаря влиянию партии в высших эшелонах организации Рэндольфа. ‹…› Cоздание концлагерей для японцев партия поддержала, чего потом стыдилась. — Брайт.
Публичные проявления гордости Америкой смахивали на симптом психического расстройства, искреннее желание помочь родине перечеркивало все нормы партийной (если не человеческой) этики, включая табу на любые контакты с охранкой. Случись патриотические конфузы с красными вертихвостками, это можно было бы понять. Но антигероями самых известных конфузов оказались самые принципиальные и проницательные товарищи, которых в наивности не заподозрить никак.
Старый коминтерновец Ивенс писал в ФБР 13 января 1942 года, что готов оказать любую помощь, какая только потребуется. Удивился ли Гувер весточке от «шпиона»? Увидел ли в ней некое коварство? В любом случае пользоваться услугами, а тем более вербовать режиссера он не захотел.
Инициативу Ивенса можно списать на душевное смятение первого, катастрофического — и для СССР, и для США — периода войны. Но вот умница Трамбо совершил откровенную глупость, изрядно попортившую его репутацию, когда война уже приближалась к несомненной развязке.
В самом конце 1943 года он получил несколько «прелестных писем, обличающих интернационал евреев, коммунистов, ньюдилеров и банкиров, наложивший запрет на „Джонни дали винтовку“. [Авторы] предлагали организовать — со мной в качестве чирлидера — общенациональный митинг за немедленный мир, пообещали развязать (и развязали) кампанию по написанию писем моему издателю с требованием переиздать „Джонни“».
Давить на издателя не имело смысла: автор сам заблокировал продажи и переиздания романа «до победы». Но Трамбо вообразил, что в переписку с ним вступили агенты целой нацистской сети. Осведомитель же, приставленный к нему, 30 декабря 1943-го доложил ФБР: Трамбо рассказал ему о письмах от нескольких пацифистских организаций.
«Мой друг [и продюсер] Эверетт Рискин сказал, что мой патриотический долг — обратиться в ФБР». Немыслимо. Коммунисты не пишут в ФБР, коммунисты не зовут агентов ФБР к себе домой. Трамбо сделал и то и другое.
[8 января 1944 года] я провел два замечательных часа с двумя молодыми джентльменами, которых необычайно интересовало, какие книги я читаю, какие журналы выписываю и где за границей побывал, а особенно, бывал ли я в СССР. Когда они уходили (начисто забыв о письмах и ничего по их поводу не записав), они предложили мне связаться с ними, если я «поменяю свои убеждения».
Отшутившись, Трамбо зачем-то уселся за новое письмо. Вынужденный на склоне жизни оправдываться (после того, как сам же это письмо опубликовал), он подчеркивал его, на сторонний взгляд неуловимый, иронический тон.
Поскольку «молодые джентльмены» свою работу не выполнили, Трамбо сделал ее за них, благо сам был отличным аналитиком. Он пришел к выводу, что группа, вышедшая на него:
1) антивоенная; 2) антисемитская; 3) находится в процессе политической организации; 4) распространяет пропагандистские памфлеты и переписывается с лицами, помещенными федеральным правительством в заключение; 5) считает главнокомандующего вооруженными силами США «величайшим преступным поджигателем в истории» ‹…›
Я разделяю искреннее желание ваших людей положить конец таким проявлениям предательской пропаганды, как преступная клевета на главнокомандующего, пораженчество, пацифизм, антисемитизм и тому подобные уловки и военные хитрости, направленные на поддержку германского дела.
Историки-антикоммунисты пользуются этим эпизодом, чтобы развенчать легенду о Трамбо — герое и жертве, заменив ее легендой о Трамбо — чуть ли не штатном осведомителе ФБР. Странно, что они считают сотрудничество с ФБР позорным делом. Что касается Трамбо, то доносчиком он был — но свой единственный донос написал на самого себя.
* * *
Несмотря на лояльность коммунистов, армия относилась к ним настороженно, предпочитая «мариновать» на территории США, парадоксально обосновывая это их «преждевременным (несвоевременным) антифашизмом» 1930-х.