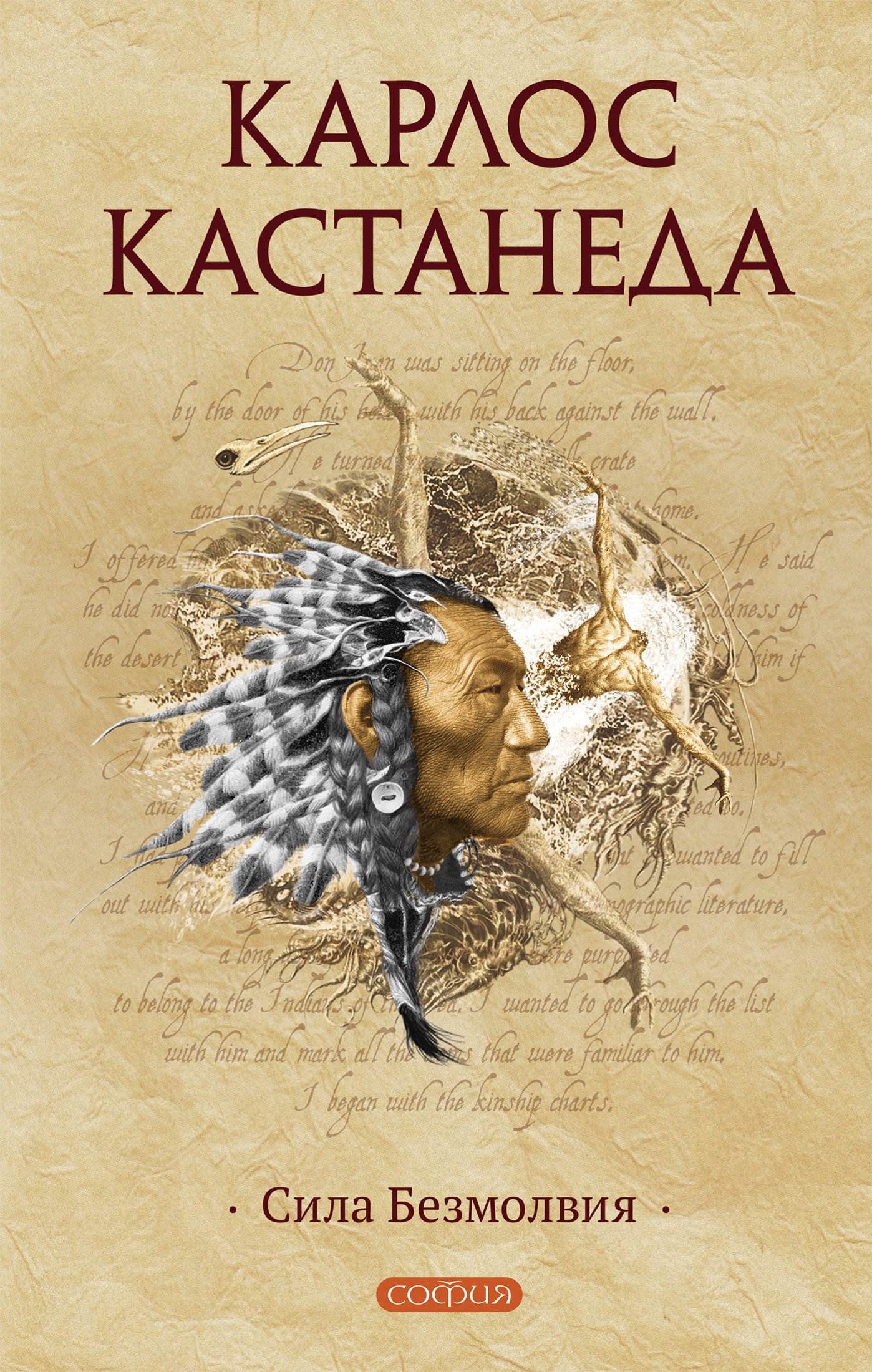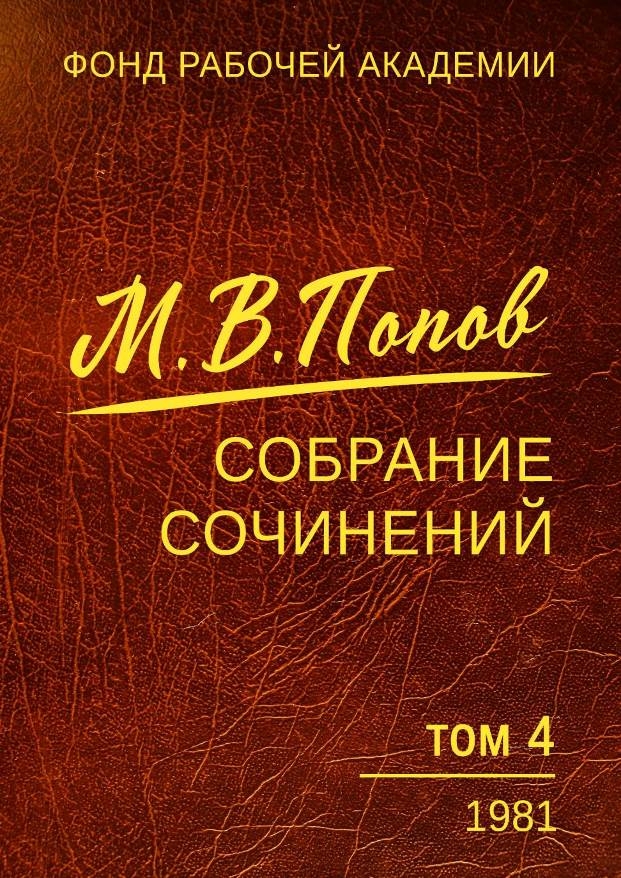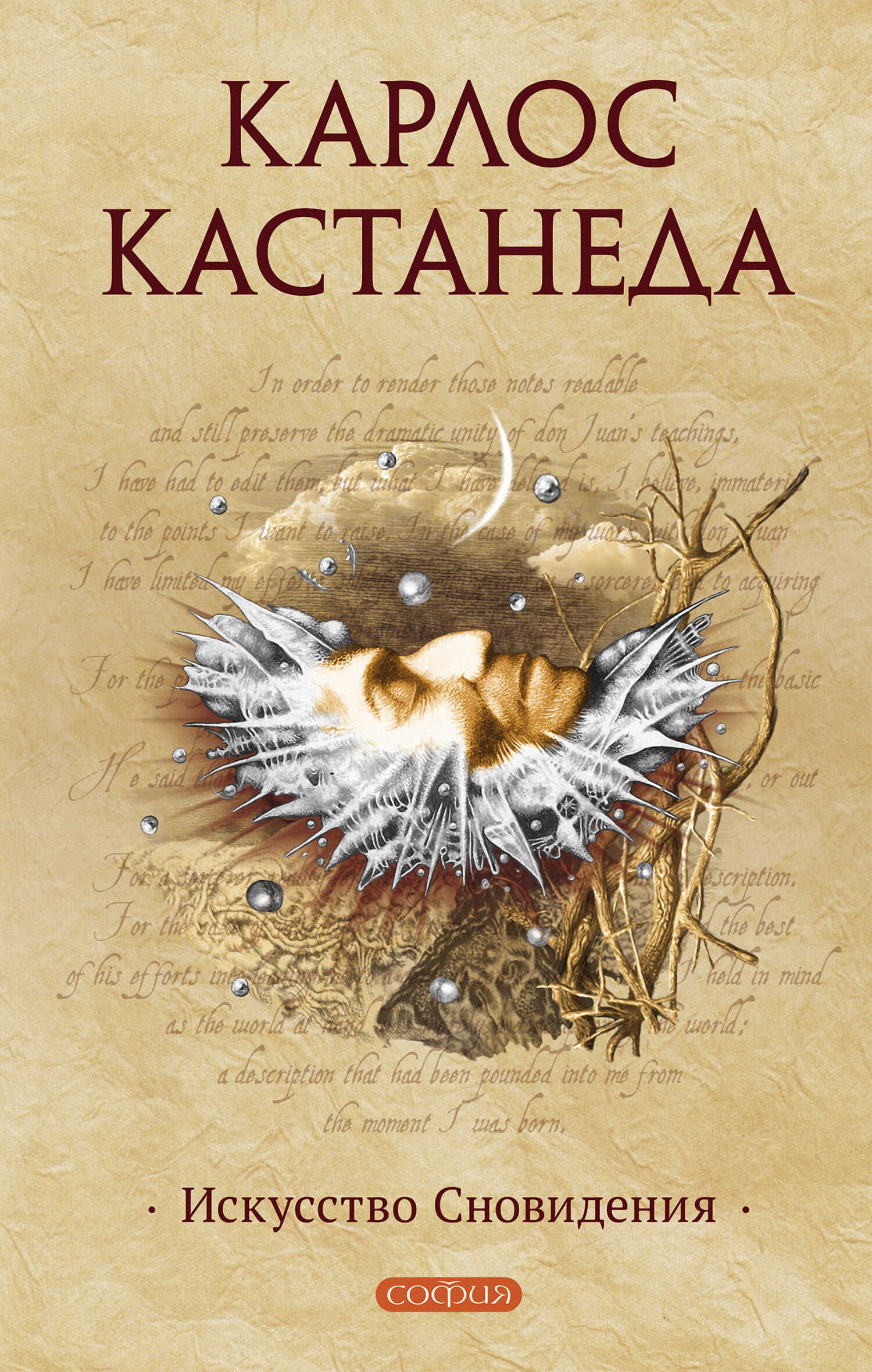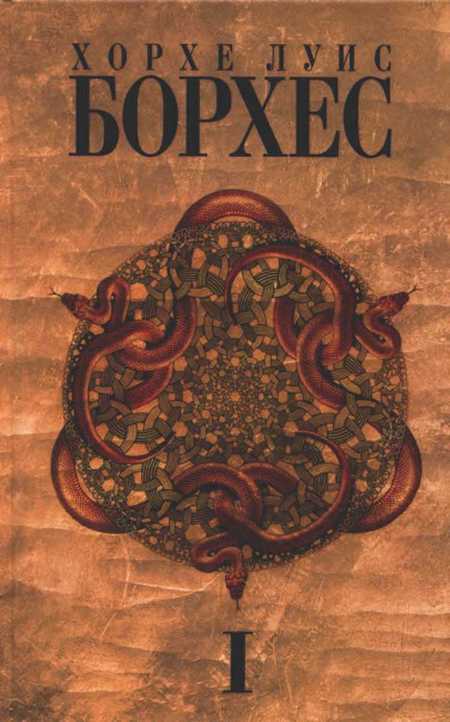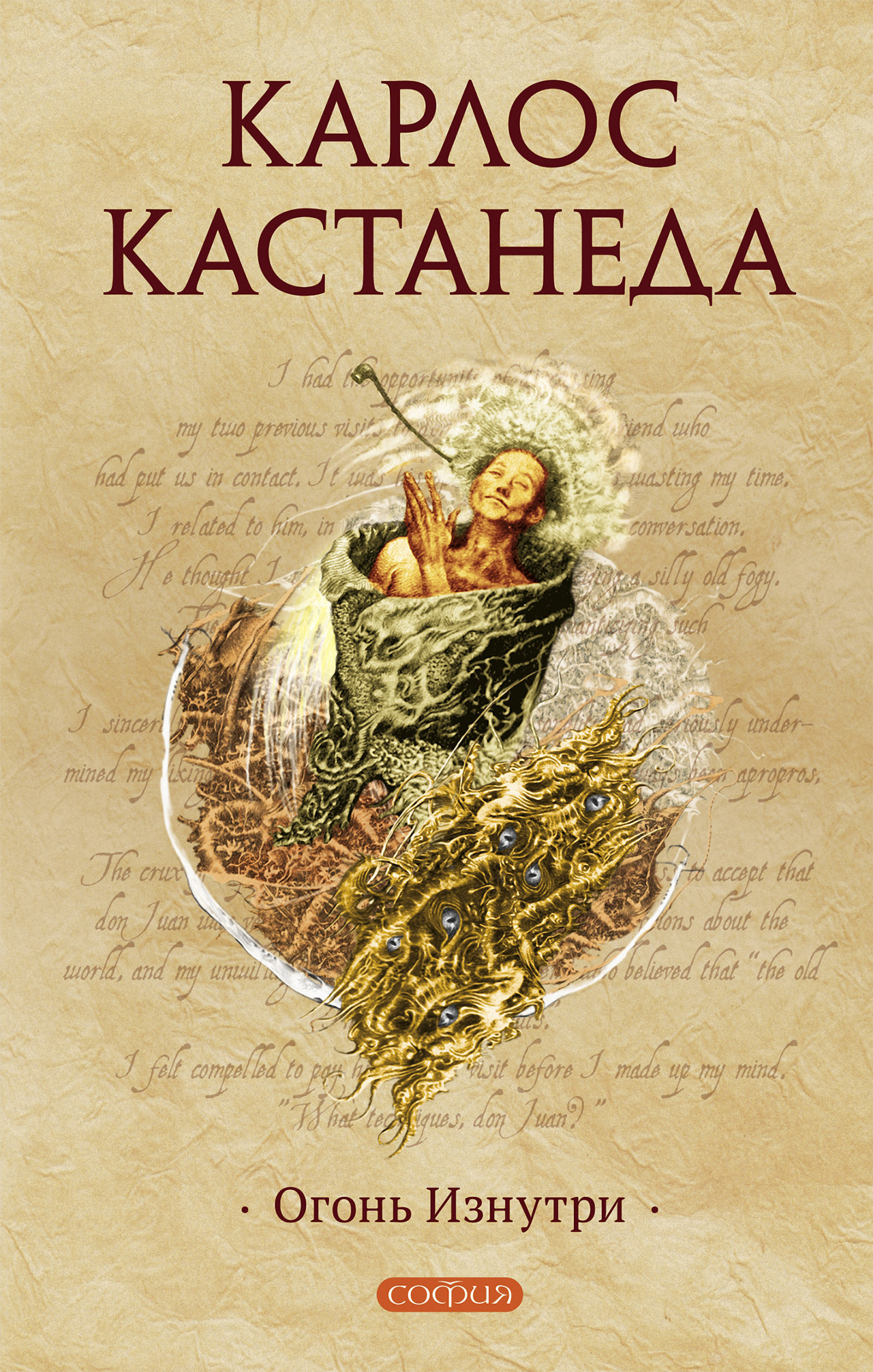мне моего отца, что я бросил работу под предлогом, что мне нужно возвращаться в университет. Мне не хотелось усугублять и без того тяжелый груз, который я взвалил себе на плечи. Я так и не смог простить себе то, что причинил отцу такую боль, как и не смог простить ему его трусость.
* * *
Я вернулся в университет и взялся за титанический труд по возвращению к занятиям антропологией. Это возвращение весьма затруднялось тем, что если и существовал такой человек, с которым, благодаря его удивительному характеру, его дерзкой пытливости и стремлению расширять свои познания без суеты и отстаивания недоказуемых положений, мне работалось легко и с удовольствием, то человек этот был не с нашего факультета — он был археологом. Именно его влиянием объясняется то, что я стал интересоваться в первую очередь полевой работой. Возможно, именно потому, что он отправлялся в поле, чтобы в буквальном смысле выкапывать сведения, его практичность была для меня кладезем рассудительности. Он и никто иной придал мне смелости в том, чтобы отдаться полевой работе, ведь терять мне было нечего.
— Утрать все — и ты достигнешь всего, — сказал он мне однажды.
Это был разумнейший совет из всех, которые мне когда-либо случалось слышать в ученом мире. Если бы я последовал совету дона Хуана и боролся со своей одержимостью саморефлексией, мне просто было бы нечего терять, в то время как достичь я мог бы всего. Но такая карта мне в то время как-то не выпадала.
Когда я рассказал дону Хуану о трудностях, с которыми столкнулся в поисках подходящего профессора, я решил, что он ко мне несправедлив. Он обозвал меня «мелким пшиком», и даже хуже того. Он сказал мне то, что я и сам уже знал: не будь я столь напряженным, я смог бы успешно сотрудничать с кем угодно в науке или в бизнесе.
— Воины-странники не жалуются, — продолжал дон Хуан. — Они принимают любое испытание со стороны бесконечности. Испытание есть испытание. Оно безлично. Его нельзя принимать как проклятие или милость. Воин-странник или принимает вызов и выигрывает, или гибнет. Если тебе больше нравится побеждать — так побеждай!
Я ответил, что ему или кому-то еще легко так говорить, а вот выполнить это — совсем другое дело, что мои проблемы неразрешимы, поскольку возникают из-за неспособности окружающих быть последовательными.
— Дело не в окружающих тебя людях, — сказал он. — Они не могут помочь даже себе. Это твоя оплошность, ведь ты можешь помочь себе с глубокого уровня безмолвия, но вместо этого склонен судить их. Судить может любой идиот. Судя их, ты лишь набираешься от них самого худшего. Мы, люди, все являемся пленниками, и именно эта несвобода заставляет нас поступать столь жалким образом. Твоя задача в том, чтобы воспринимать людей такими, каковы они есть! Оставь людей в покое.
— Ты абсолютно неправ на этот раз, дон Хуан, — сказал я. — Поверь, мне совершенно ни к чему ни судить их, ни каким-либо образом впутываться в их проблемы.
— Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, — упорствовал он. — Если ты не осознаешь свое желание судить их, — продолжал он, — то ты еще хуже, чем я думал. Так бывает со всеми воинами-странниками, когда они только начинают путешествие, — они сразу становятся самонадеянными.
Я согласился с доном Хуаном в том, что мое недовольство было в высшей степени мелочным. Я и сам прекрасно знал об этом. Я сказал дону Хуану, что столкнулся с повседневностью, с той повседневностью, что обладает ужасным свойством сводить на нет всю мою решительность, и что я постеснялся рассказывать ему об эпизодах, которые произвели на меня тягостное впечатление.
— Ничего, выкладывай! — убеждал он меня. — Не держи от меня никаких секретов. Я — пустая труба. Что бы ты ни сказал — все уйдет в бесконечность.
— Все, что у меня есть, — это мелочные жалобы, — сказал я. — Я в точности такой же, как те люди, которых я знаю. Ни один разговор с ними не обходится без откровенных или же скрытых жалоб.
Я рассказал дону Хуану о том, как в самых простых разговорах мои друзья умудряются ненавязчиво перейти к бесконечному потоку жалоб — как, например, в таком диалоге:
— Как дела, Джим?
— О, прекрасно, Кэл, просто великолепно.
За этим следует тягостное молчание. Я вынужден спросить:
— Что, Джим, что-нибудь не так?
— Да нет, все чудесно. У меня были некоторые нелады с Мэлом, но ты же знаешь Мэла — эгоист и ничтожество. Но ведь друзей следует принимать такими, каковы они есть, не так ли? Он, конечно, мог бы быть чуть более деликатным. Да какое там! Он — это он и есть. Как ни крути, он всегда перекладывает все на других. Он вел себя так, еще когда нам было по двенадцать лет, так что я действительно сам виноват. Какого черта я должен его терпеть?
— Да, Джим, ты прав, у Мэла действительно очень тяжелый характер!
— Ну, если уж на то пошло, Кэл, то ты ничем не лучше Мэла. На тебя никогда нельзя положиться.
И так далее.
Другой классический диалог звучал так:
— Как дела, Алекс? Как тебе семейная жизнь?
— О, замечательно. Прежде всего, теперь я регулярно питаюсь, ем домашнюю пищу, но вот беда — начал поправляться. Мне нечем заняться, разве что смотреть телевизор. Раньше я проводил время с ребятами, но теперь не могу. Тереза мне не позволяет. Разумеется, я мог бы послать ее ко всем чертям, но мне не хочется ее обижать. У меня все есть, но я чувствую себя несчастным.
Перед тем как жениться, Алекс был самым жалким из нашей компании. Его любимой шуткой было каждый раз говорить пришедшим к нему друзьям: «Ну-ка, бегом ко мне в машину, я хочу представить вас своей сучке».
Он млел от удовольствия, наблюдая крушение наших надежд, когда мы видели, что у него в машине находится именно собака. Он представлял свою «сучку» всем друзьям. Мы поистине были в шоке, когда он женился-таки на Терезе — бегунье на длинные дистанции. Они познакомились на марафоне, когда Алекс потерял сознание. Они бежали в горах, и Тереза должна была привести его в чувство во что бы то ни стало, поэтому она помочилась ему в лицо. После