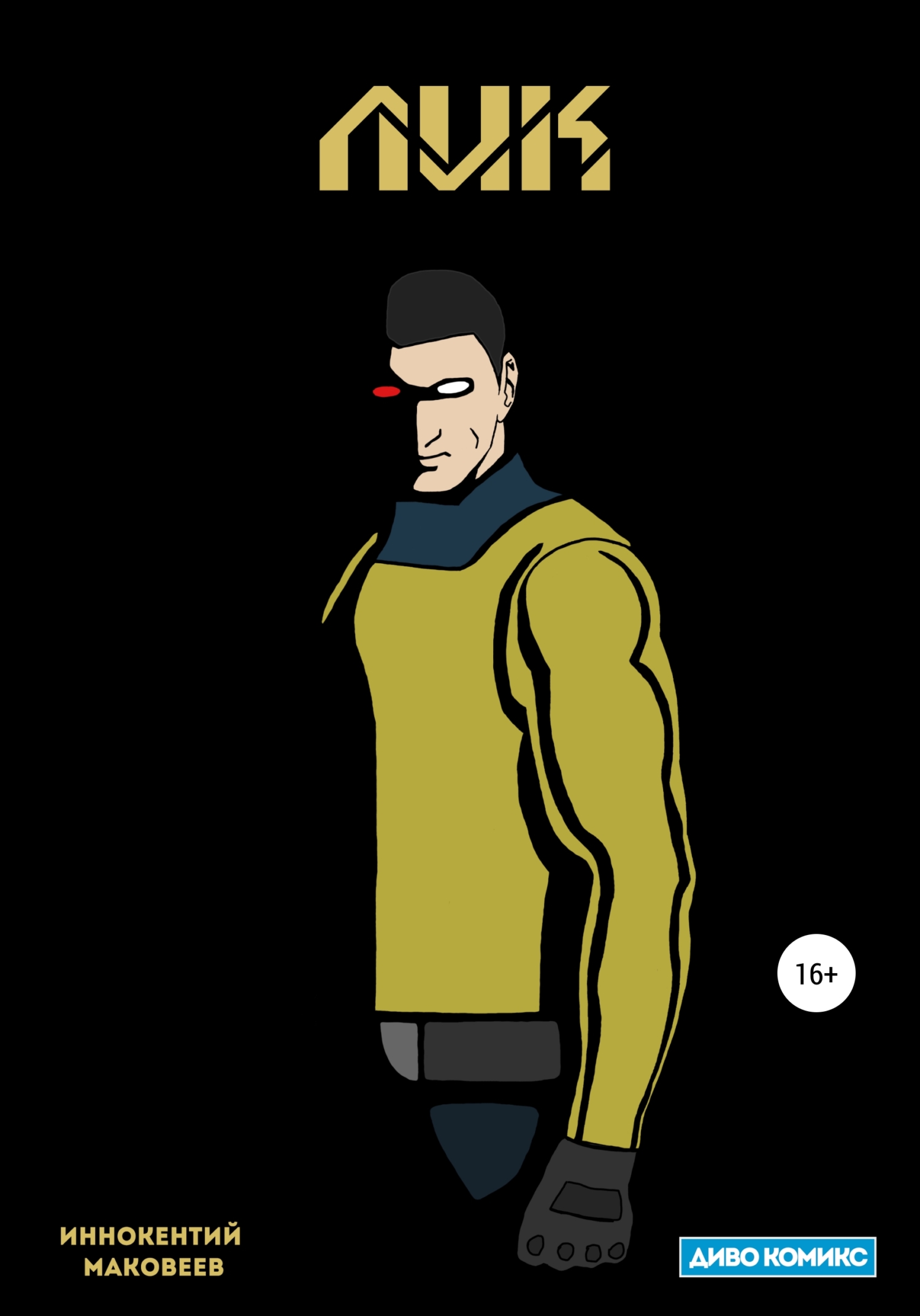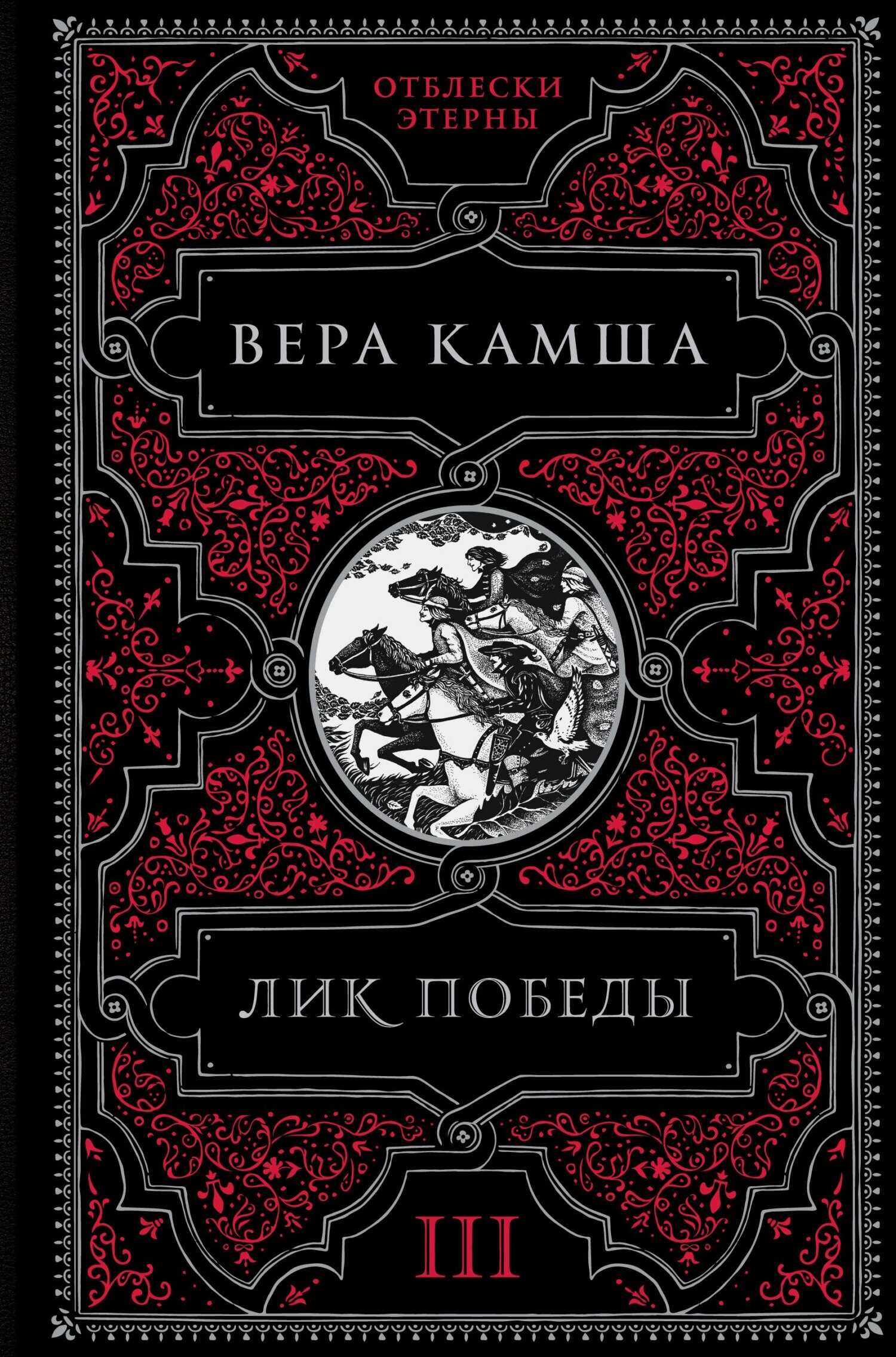Один раз кто-то затащил тебя в кладовку и запер там. Я шел мимо и услышал тихий, безнадежный плач. Открыл дверь и увидел, как ты стоишь среди ведер и тряпок, заплаканная, потерянная и такая одинокая, что сердце сжалось до такой степени, что я не мог даже пошевелиться. Ты же, увидев меня, просто перестала плакать, открыла свои ясные глаза, посмотрела на меня, сделала шаг из кладовки и обняла худенькими ручонками. – Он делает паузу, и на его губах появляется грустная улыбка. – Я поначалу пытался оторвать тебя от себя, отодвинуть, но ты вцепилась, как пиявка, повторяя одно и то же: «Братик, братик, можно я с тобой, не оставляй меня, я буду хорошей, больше не буду плакать». После этих слов я сдался, оттаял, обнял тебя и сказал, что я тебя не оставлю. С каждым днем я все сильнее привязывался к тебе, к твоему тихому смеху, к твоим нелепым «почему». Я даже прозвал тебя «Почемучка». Мы становились роднее с каждым днем. Я перестал быть одиноким, брошенным ребенком. Мы вместе читали детские сказки, рисовали, лепили из пластилина, мне даже приходилось играть с тобой в куклы, хотя, знаешь, я бы предпочел бегать с мальчишками во дворе. Но ты так боялась оставаться одна. Ты всегда так горько и жалобно плакала. Когда тебе стукнуло семь, ты стала моим главным сообщником во всех проказах. Мы лазили по деревьям, сбега́ли из детского дома и носились по крышам гаражей. Ты даже стояла в углу за мои проступки – для девочек наказания всегда были мягче. Несмотря на мои возражения, ты часто брала всю вину на себя. В какой-то момент, когда мне было тринадцать, я понял, что не соврал тебе в тот день, что не оставил тебя. Ты стала мне младшей сестрой, а я твоим старшим братом. И пообещал себе, что никогда не брошу, не предам тебя, что бы ни случилось. Нас и так уже предали, отказав в семье и родительской любви. – Он делает глубокий вдох и продолжает: – А еще ты всегда оставляла мне свою порцию сладкого, зная, как я его люблю. Ну а я дрался с твоими обидчиками, помогал тебе с математикой и физикой. Я был твоим братом, всегда им был. Много чего случилось в нашей жизни – хорошего и не очень. Но, несмотря ни на что, мы просто поверили, что бывают на земле родные не по крови, а по сердцу люди. Между нами были родственная близость, преданность и доверие. Ты мне всегда так говорила… раньше.
Он пристально смотрит на меня, ища хоть какие-то проблески воспоминаний. А я только сжимаю губы, не зная, что ответить.
– Когда мне исполнилось восемнадцать, меня выпроводили из приюта, но тебя со мной отпускать отказались. Закон не позволял. Я остался в нашем городе, снял комнатушку рядом с детским домом и частенько тебя навещал. Ты тоже при каждом удобном случае сбега́ла ко мне. В те годы я много работал, а что еще оставалось делать? Мне нужно было позаботиться о нас, я хотел подарить тебе будущее, которое ты заслужила. Ты мечтала быть дизайнером, столько раз говорила мне об этом, расписывая во всех красках нашу будущую жизнь в большом городе. Я любил слушать эти твои сказки, в них всегда был хороший конец. Потом мы переехали в Мэй, ты поступила на архитектурный, а я устроился на достойную работу, нашел замечательную девушку, которую ты сразу приняла в нашу семью. Мы были счастливы, как могут быть счастливы брат и сестра, чьи мечты сбывались. Пока не наступил тот вечер… Прости меня, родная. Прости, что все так случилось.
Он старается сглотнуть, замолкает и сильнее сжимает трубку.
– Я прощаю, – просто говорю я.
И, увидев, как по его щекам начинают течь слезы, чувствую такое облегчение, словно с меня сняли тугой затянутый корсет, который не позволял дышать, постоянно давил и сковывал. Вдыхаю полной грудью, вытираю соленые капли. И прощает его не Анна, прощаю его я – Лина.
– Но я хочу знать, что произошло тем вечером. Это ты ее убил? – задаю я вопрос, ради которого пришла сюда.
– Нет, – выдыхает он. – Я бы никогда этого не сделал.
От его слов в легких кончается воздух. Все лицо пылает, в висках стучит, шея ноет от напряжения.
– Тогда что произошло двадцатого апреля прошлого года? Почему ты признался? Это я, да? Я это сделала?
Мои губы дрожат, все тело бьет озноб.
– Анна… Я не могу тебе помочь в этих вопросах. И не надо открывать черный ящик. Тебе повезло забыть тот вечер, поверь, не стоит его вспоминать, – твердо отвечает он. – Расскажи лучше, как ты? Ты изменилась, совершенно другая. Подстригла волосы, тебе хорошо, хотя я очень любил твои длинные каштановые кудри. Чем занимаешься, как учеба?
– Это все не важно, – отмахиваюсь я от его вопросов. – Я должна вспомнить, понимаешь? Я хочу вспомнить!
– Нет, – резко отвечает он. – Это уже случилось, я взял всю вину на себя. Я осужден на двадцать пять лет и отсижу положенный срок. Это ничего, слышишь? Я будто вернулся в приют. Свои порядки, законы, правила. – Он пытается улыбнуться, но улыбка получается фальшивой.
– Но я должна…
– Нет, ты слышишь меня? Я сказал, нет. Я хочу, чтобы ты жила дальше. Жила нормальной жизнью. Ты всегда сможешь приходить ко мне, если захочешь увидеть, – грустно, но бескомпромиссно произносит он, словно озвучивает приговор.
– Я должна знать! Что произошло, что я сделала? Почему я сделала это? – бешено, визгливо забрасываю его вопросами. – Черт возьми, мне нужна правда о том вечере, я так больше не могу!
Он ударяет кулаком о стол, я вздрагиваю. Охрана бросает на нас предупреждающие взгляды.
– Ты уверена, что хочешь знать? – хрипит Кир.
Я киваю. Ладони потеют, тело покрывается мелкими мурашками, в животе все скручивает, а я замираю в ожидании правды.
Он сдается, сжимает в руке трубку так, что его стертые костяшки пальцев превращаются в мел, и тихо произносит:
– В тот вечер ты позвонила мне. Ты рыдала, захлебывалась, задыхалась. Слов было почти не разобрать. Я пытался понять, что ты говоришь, но это казалось почти невозможным. А твой плач рвал сердце. Из всего сказанного я понял только, что что-то случилось, и решил, что кто-то тебя обидел. Меня накрыла ярость, дикий гнев, это затмило мой разум. Как только расслышал слова «театральный зал» и «университет», рванул туда. Я не знаю, что произошло в тот вечер, – Кир мотает головой и упирается лбом в свободную ладонь, словно голова