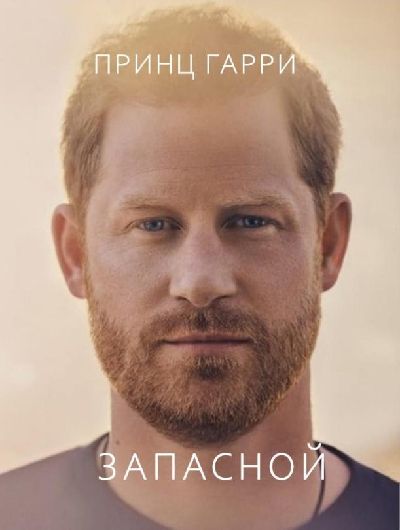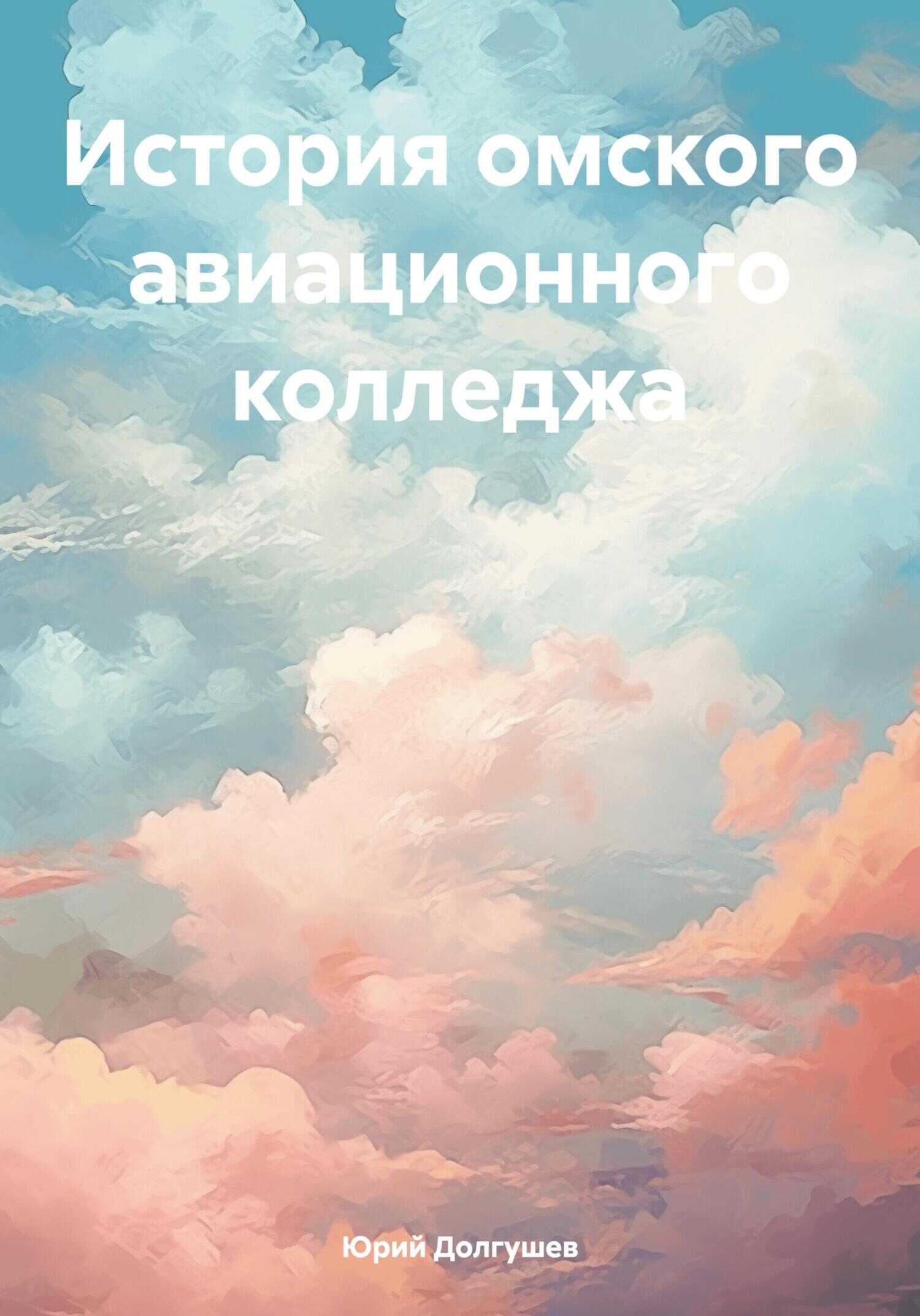Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 84
по-польски, знакомился с польской литературой, историей, занимался математикой, географией, физикой и химией. Я не желал отгораживаться от окружавшего мира гоев, как это делали очень многие евреи, но стремился выучить польский язык и стать полноценным гражданином. Я срезал пейсы, хотя знал, что из-за этого у меня будут цурес (неприятности). Я спорил с отцом и плакал. Так или иначе, волосы уже были пострижены. К тому же незадолго до этого был принят закон об обязательном семилетнем образовании. Так что отец был вынужден уступить.
При этом я продолжал ходить в школу в длинном черном лапсердаке, хотя мои соученики уже сменили одежду. Были еще два мальчика-хасида, все еще одевавшиеся так же, но к следующему учебному году они ушли из школы. Я остался один. Само собой, христиане сделали из меня посмешище. В конце концов учитель отозвал меня в сторонку и сказал: «Слушай, Ленга, я дам тебе совет для твоей же пользы. Ты один во всей школе ходишь в лапсердаке. Лучше не являйся сюда в таком виде, потому что я не ручаюсь за последствия».
Я решил, что не стоит обсуждать этот вопрос с отцом. Мой брат Ицеле, который теперь именовал себя Айзек, носил в городе обычную короткую куртку, и когда отец узнал об этом от кого‐то из друзей, он выгнал Айзека из дома на семь недель. Я знал, что отец не отступился бы и забрал меня из школы из-за этого лапсердака.
Так что же было делать? Я одолжил куртку у своего лучшего друга, Хамейры Зальцберга, сильного, мускулистого парня. Его семья владела пекарней. Его родственники были религиозны, но они не были хасидами. Он отдал мне старый пиджак, впрочем, не дырявый. Утром я выходил из дома в лапсердаке, по дороге в школу заходил к Хамейре домой и переодевался в куртку. После школы я снова приходил к нему, облачался в свою одежду и отправлялся в хедер.
Я был очень осторожен и старался, чтобы отец ничего не заподозрил, но рано или поздно он бы все узнал. Его друзья видели, как я разгуливаю в короткой курточке даже зимой. Однако отец ничего мне не сказал, а я ничего не сказал ему… Это было своего рода молчаливое джентльменское соглашение.
За воротами школы и за пределами окрестных еврейских кварталов у нас тоже хватало проблем. Иногда, отправляясь в гости к брату нашей настоящей матери, дяде Аарону, я брал с собой Мойшеле. Нам приходилось идти через польские кварталы. Я предпочитал не ходить там в одиночку, потому что местные мальчишки могли поколотить меня.
Однажды, рассуждая сам с собой, я подумал: «Почему я должен бояться ходить там? Да плевать мне на это!» И вот как‐то раз несколько мальчишек подошли ко мне и назвали жидом (что оскорбительно для еврея[18]). Это было обычное дело, но один из них попытался ударить меня. Я схватил камень и метнул в него. Он бросился наутек, но я все равно попал ему прямо в голову. С тех пор ребята меня больше не трогали.
Поляки называли нас христоубийцами. Я знал точно: мы не убивали Христа. Как‐то летом, когда мне было двенадцать, я решил пойти искупаться на речку неподалеку от города. Хамейра и другие мои друзья были заняты, и я решил рискнуть, отправившись в одиночку. Польский крестьянин чуть старше двадцати лет подошел ко мне и замахнулся, чтобы ударить. Я сказал: «Подожди минуту. Почему ты хочешь меня ударить?» Он остановился и ответил: «Не знаю». А дальше состоялся примерно такой диалог:
Хиль: У тебя должна быть причина. Я тебя обидел? Объясни, почему ты хочешь стукнуть меня?
Польский крестьянин: Ты убил Христа.
Хиль: Я убил Христа? И давно ли?
Польский крестьянин: Не знаю.
Хиль: Ну, скажи-ка, это было месяц или год назад?
Польский крестьянин: Нет-нет, это было давно, очень давно.
Хиль: Насколько давно? Сто лет назад?
Польский крестьянин: Наверное, сто.
Хиль: Хорошо, а как ты думаешь, сколько мне лет?
Польский крестьянин: Не знаю.
Хиль: Попробуй угадать.
Польский крестьянин: Может быть, десять, или двенадцать, или пятнадцать лет.
Хиль: Так как же я мог убить Христа? Ты говоришь, его убили сто лет назад и утверждаешь, что мне пятнадцать лет.
Польский крестьянин: А знаешь, ты прав.
Заметив, что он задумался над этим вопросом, я удрал.
Я никогда не рассказывал отцу о таких встречах, поскольку, что бы ни случилось, он всегда обвинял нас, своих собственных детей. «Не надо было туда ходить, – говорил он. – Не надо высовываться». Так он мыслил. Его приучили так думать.
Евреям в Польше жилось очень непросто, и приходилось мириться с этим. Ежеминутно тебе напоминали, что ты чужак. Поляки ненавидели нас. Все евреи чувствовали это даже в хорошие времена. Но я никогда не ощущал себя неполноценным. Мне просто было жаль невежественных и темных людей.
Так мы и жили: бок о бок с поляками, но в разных цивилизациях. Но все менялось в базарные дни, когда люди сходились, чтобы что‐то купить или продать. Однажды отец послал меня на рынок купить продукты для семьи. Я увидел, что толпа собралась вокруг парня, который играл в трехкарточный Монте[19]. Я внимательно наблюдал за игрой, пока ставки делали другие. Все проигрывали, но я каждый раз правильно угадывал карту. Значит, я смогу выиграть.
Мне, мальчишке, было невдомек, что игроки – сообщники парня-ведущего. Он не применял мошеннического трюка, когда они делали ставки, чтобы заставить зевак вроде меня присоединиться к игре. Я не смог противостоять искушению. Мне казалось, что я точно знаю, какую карту выбрать. Мой палец указал не на ту карту, и все деньги, выданные мне отцом, были потеряны.
Я был очень расстроен, что не купил еды, и боялся рассказать о произошедшем отцу. Мне казалось, что он здорово поколотит меня. Но он даже не повысил голоса, заметив только, что стоило потерять эти деньги, чтобы навсегда отбить у меня тягу к азартным играм.
Это было удивительно. Вообще, отец был человеком нервического склада. Он был строг и нетерпим. Его раздражала любая мелочь. Он всегда находил причины ругать нас за плохое поведение – чтобы сделать нас меншен, настоящими мужчинами. В детстве мы все боялись его. Если мы что‐то делали не так, он нередко поколачивал нас. Впрочем, отец не всегда был таким: на людях, за пределами семейного круга,
Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 84