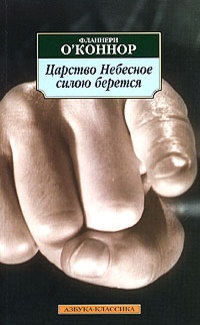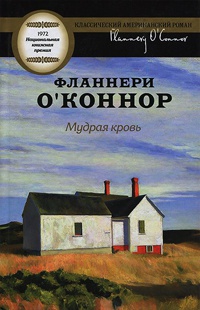ни наивной была эта цель, нынешние суррогаты «морали» ещё мельче. По общему мнению, современный роман всецело обращается вокруг общественно‐экономических и психологических сдвигов, которые в нём обязательно надо выразить, или обыденных мелочей, хорошему романисту нужных, лишь для того, чтобы подобраться к чему‐то более сокровенному.
Готорн сознавал свои проблемы и, возможно, предвидел наши, называя себя не романистом, а романтиком [20]. Сегодня большинством читателей и критиков установлен единый стандарт «правоверного» романа. Таким подавай реализм факта – в конце концов, скорее не расширяющий, а сужающий горизонты повествования. Единственной приемлемой темой для «значительного» романа этим господам представляется нечто «типичное» – борьба общественных сил, изображаемая так, как оно выглядит и происходит на самом деле. К «характерному» прилагается оптовый обзор тех сторон жизни, о которых романисты викторианской эпохи не могли говорить открытым текстом. Права отделаться от рамок «приличия» писатели добивались на протяжении пяти, а то шести десятилетий. Спору нет, снятие запретов открыло массу возможностей для самовыражения в прозе, но за ним для культуры всегда наступает чёрный день, как только подобные вольности становятся нормой. У писателя нет иных прав, кроме тех, что он вырабатывает сам для себя в творческом процессе. На нас обрушивается девятый вал жалкой писанины, взращённой на дармовых послаблениях. И на том мнении, что вымысел обязан отображать «типичное», а более глубокие методы реализма всё менее доступны пониманию читательской массы.
Автору, пишущему в условных рамках романтического модерна, не обязательно соблюдать каноны ортодоксальной романистики, но пока в написанном им пульсирует жизнь и действуют живые люди, каким бы эксцентричным ни казалось их поведение рядовому читателю, с ними приходится считаться, принимая их правила игры.
Когда разбирают характерные черты современной серьёзной прозы, особенно «южан», часто звучит, причём в уничижительном смысле, слово «гротеск». Ясное дело, давно выяснилось, что северный читатель видит гротеск в каждой вещи южанина, а если он его не видит, тогда это будет реализм. Однако на сей раз мы отбросим сомнительные ярлыки и обратимся к прозе, которую можно назвать гротескной по веским причинам, хотя бы потому, что в это русло её направила воля её автора.
В таких гротескных картинах автор живо изображает ситуации, с которыми в повседневной жизни мы сталкиваемся крайне редко, а рядовой читатель и вовсе ни разу в жизни. Мы обнаруживаем, что он, игнорируя привычные нам, ожидаемые правила реализма, разрушает их взаимосвязь, видим диковинные скачки и пустоты, которым бы не позволил зиять любой рядовой бытописатель. И тем не менее его персонажи сохраняют внутреннюю согласованность даже в отрыве от своего общественного окружения. Вымышленные свойства этих людей уходят от типичных для их среды шаблонов поведения в сторону чего‐то таинственного и неожиданного. И это как раз та форма реализма, с которой мне хотелось бы разобраться.
В сущности, все романисты стремятся описывать то, что есть на самом деле, но «реализм» каждого из них в отдельности зависит от предельной дальновидности при взгляде на действительность, от охвата её крайних рубежей. С каждым веком, начиная с восемнадцатого, общественное мнение всё сильнее тяготело к мысли, будто все загадки и проблемы в конце концов капитулируют перед достижениями науки, и эта идея всё ещё крепко сидит в голове у нынешнего поколения – первого, которое может быть полностью уничтожено как раз благодаря её прогрессу [21].
Если романист в ладах с таким умонастроением, если он уверен, что поступки заранее заданы психологической моделью или состоянием экономики, либо ещё каким предопределяющим фактором, тогда его главной заботой будет кропотливое копирование вещей, касающихся человека непосредственно, наряду с теми стихиями, которые, как ему кажется, контролируют его судьбу. Такому автору по плечу трагический натурализм крупной формы, поскольку тщательное рассмотрение того, что он видит, компенсирует его близорукость.
Если же, напротив, писатель считает нашу жизнь, по сути, неким таинством, рассматривая нас как существ, добровольно отвечающих предзаданным «тварным» законам, тогда всё, что автор видит «на поверхности», любопытно ему лишь как препятствие, мешающее ему пробиться к переживанию сокрытого. Работая в таком режиме, он будет неуклонно продвигать грани собственного творчества к порогу неведомого, поскольку для писателя такого склада история начинается «в глубинах», где «адекватной» мотивации и психологии героев уже нет места, как и иным «заданностям» поведения. Такому писателю куда интереснее не то, что нам понятно, а то, чего мы не поймём.
Что могло бы случиться для него куда важнее того, насколько вероятно это было [22]. Ему интересны персонажи, вынужденные реагировать на добро и зло, доверяющиеся тому, что превыше их… Сознают ли они ясно, на что опираются их поступки или нерешительность? В глазах современного человека – и писатель, и его персонаж – два типичных «донкихота», атакующие эфемерные «ветряные мельницы!
Я далека от мысли, что писатель данного типа готов смотреть сквозь пальцы на плоть и кровь мира, потому что таинства интересуют его, мол, в первую очередь. И вымысел и знание жизни имеют общий первоисточник – наши ощущения, от них зависит продуктивность каждого сочинителя. И всё‐таки я верю, что описываемый мною автор станет препарировать зримый и чёткий материал безогляднее. Вплоть до очевидного искажения на свой лад.
Генри Джеймс говорил, что Конрад трудился в своей прозе над тем, что требует самой тщательной отделки [23]. Тот, кто пишет в «гротесковой» манере, трудится далеко не столь «тщательно», памятуя, как велика отдалённость того, чем он занят, от «действительности». Он занят поиском единого образа, который свяжет, объединит или воплотит в себе два предмета, один из которых зримо реален, а другой не видно невооружённым глазом. Но автор твёрдо верит и во второй предмет, который для него так же реален, как и тот, что стоит у всех на виду.
Нет нужды подчёркивать, что такая проза будет выглядеть диковато, что ей придётся стать откровенно комичной в силу несуразностей, которые она силится собрать воедино.
Даже герои гротескной прозы не кажутся её автору безобразнее обычных подонков общества, они могут показаться таковыми читающей публике, которая попросит, а то и потребует объяснить причину, по какой он выпускает на свет таких моральных калек. Томас Манн считает гротеск жанром поистине анти‐буржуазным [24], однако я уверена, что у американского читателя получилось ассоциировать гротеск c «сентиментальностью», раз, отзываясь о нём положительно, он, похоже, увязывает его с сочувствием автора своим персонажам.
В наши дни абсолютно необходимым для писателя атрибутом считается его готовность «сострадать». Само это слово складно звучит в чьих угодно устах, и ни одна аннотация на обложке без него не обходится.