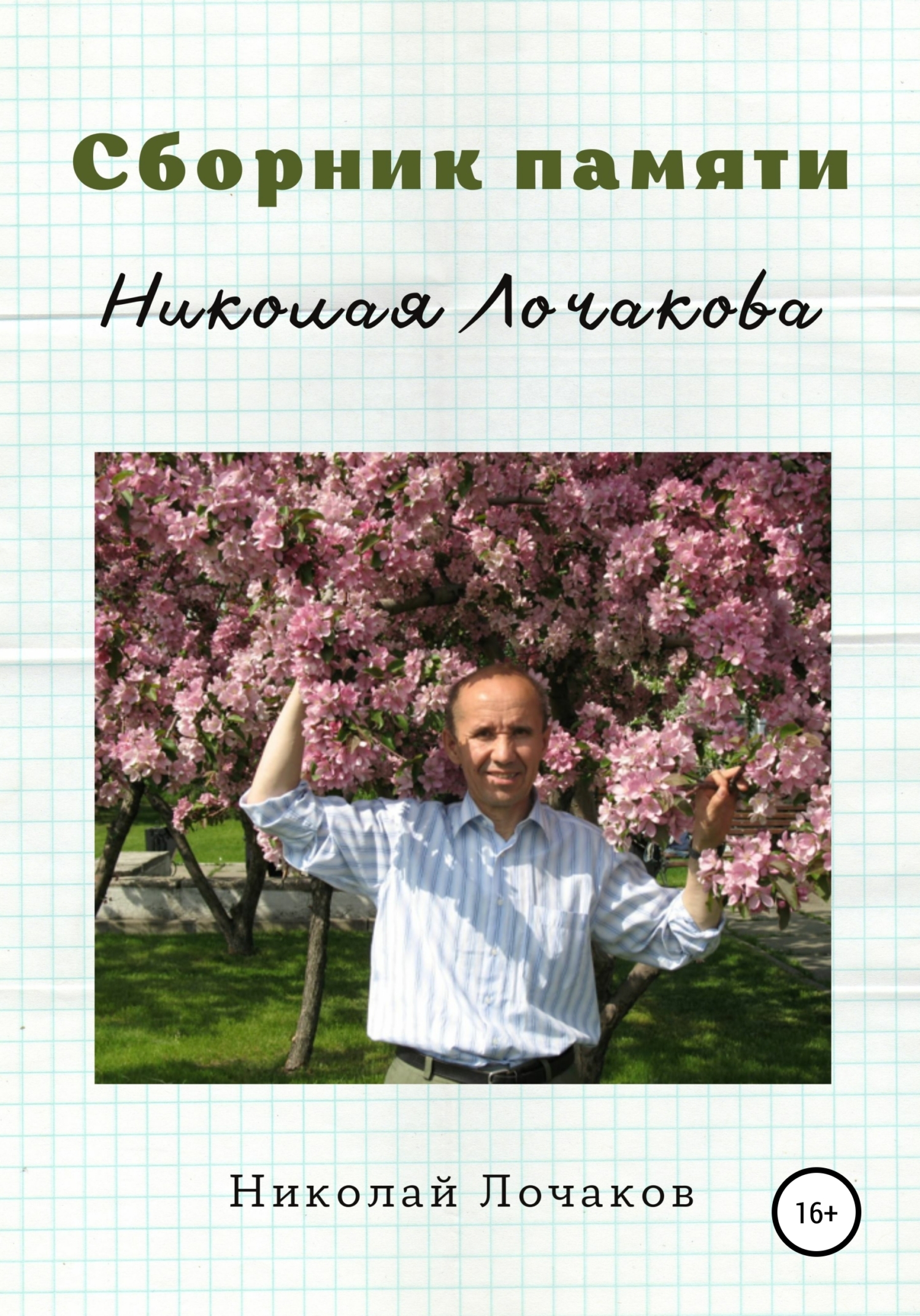принялся перечитывать книгу. Она, неисчерпаемая, глядела на меня оценивающим взглядом, словно череп на кладбище ночью. Когда закрываешь «Лабиринт бесчеловечности», он как бы обещает тебе продолжение, продолжение, которое я, быть может, никогда не прочту.
Чтобы понять, в чем тут дело, достаточно было позвонить Сиге Д. Но я не сдамся так быстро. Пусть книга сама раскроет мне себя. Я помню печальный взгляд Матушки-Паучихи в тот момент, когда она мне ее вручила. И ее слова: «Завидую тебе. Но и сочувствую». «Завидую» значило: ты спустишься по лестнице, которая ступенька за ступенькой приведет тебя в самые глубины твоей человеческой сути. А «сочувствую» – когда до тайны будет рукой подать, ступеньки погрузятся во мрак, и ты останешься один, и у тебя не будет ни желания подняться, ибо тебе откроется никчемность жизни наверху, ни возможности продолжить спуск, ибо тьма поглотит лестницу, ведущую к разгадке.
Я закрыл книгу и открыл на первой странице тебя, Дневник.
12 июля
Этим утром мне надо было зайти в Сенегальское консульство и отметиться в отделе студенческих стипендий, чтобы получать ее еще в течение года. Потом придется решать, что делать дальше: найти настоящую работу, или снова взяться за диссертацию и довести ее до ума, или жить на улице, или пойти на содержание к богатой пожилой тетке, помешанной на африканской экзотике, или написать историю деградации личности, замаскированную под руководство по развитию личности. Или подохнуть. А потому да здравствует милосердное отечество, которое поддерживает мое существование!
Потом я зашел в библиотеку просмотреть перечень значительных произведений, вышедших во Франции в 1938 году. И увидел впечатляющую картину достижений французской литературы, поэзии и философии: Бернанос, Ален, Сартр, Низан, Грак, Жионо, Эмме, Труайя, Ева Кюри, Сент-Экзюпери, Кайуа, Валери… Какие имена! Но я не нашел никаких упоминаний ни о Т. Ш. Элимане, ни о «Лабиринте бесчеловечности».
Когда я вернулся, Станислас был дома, и я не мог не возобновить вчерашнюю беседу. Он спросил, о чем эта книга. Я не ждал от него этого вопроса, который вообще-то терпеть не могу. Тем не менее надо было что-то отвечать, и я, помедлив, произнес несколько высокопарных фраз, где каждое слово как будто начиналось с большой буквы, что-то вроде: «Об одном Человеке, о кровожадном Короле; этот Король одержим жаждой Власти и готов на абсолютное Зло, чтобы добиться своего; но он обнаруживает, что даже пути абсолютного Зла приводят его к Человечности».
После этой тирады Станислас несколько секунд смотрел на меня, затем произнес: «Это ничего не значит. Дам тебе совет: никогда не пытайся рассказать, о чем та или иная великая книга. А если все же захочешь, вот единственно возможный вариант: ни о чем. Великая книга, она всегда ни о чем, но в ней – всё. Не попадайся больше в эту ловушку, не пытайся объяснить, о чем книга, если чувствуешь, что книга – великая. По общему мнению, книга обязательно должна о чем-то рассказывать. Но правда в том, Диеган, что только посредственная, или скверная, или банальная книга рассказывает о чем-то. У великой книги нет сюжета, она ни о чем не рассказывает, она лишь стремится выразить или открыть нечто, но это «лишь» уже содержит в себе всё, и в этом «нечто» опять-таки заключено всё».
15 июля
Франция выиграла чемпионат мира по футболу и зажгла свою вторую звезду на небе, где уже сияло столько звезд. Я посмотрел финал вместе с Мусимбвой, потом мы пошли в маленький африканский ресторанчик с приличной кухней и посредственным сервисом; атмосферу создавал старик, игравший на кóре; его репертуар состоял из одной-единственной баллады, длинной и с бесконечными повторами.
Когда-то конголезец Мусимбва занимал нишу «молодого африканского писателя с большим будущим». Он на три года старше меня и уже написал четыре книги, которые были с восторгом приняты не только нашим «гетто», но и критикой во внешнем мире. После успеха первого романа он бросил работу бармена, чтобы отдать себя литературе, как монашка отдает себя Богу.
Помнится, я относился к нему с недоверием, а вначале даже с ненавистью, когда он, словно метеор, ворвался в литературную среду, собирая премии, аплодисменты и лавры с безразличием, которое можно было объяснить как смирением, так и наглостью. Этот Мусимбва, говорил я, просто поймал волну, а когда мода на него пройдет, его вынесет на берег и о нем забудут, как забыли о многих других, кому раньше пели дифирамбы. Разумеется, на тот момент я не прочел ни строчки Мусимбвы. Но после первой строчки ревность сменилась у меня завистью, зависть – восхищением, а восхищение порой переходило в безграничное отчаяние, вызванное уверенностью, что я никогда не смогу проявить такой талант. На мой взгляд, он, бесспорно, первый среди равных, лучший в нашем поколении.
Когда я опубликовал «Анатомию пустоты», Мусимбва, будучи еще не знаком со мной, стал первым писателем, который высказался о моей книге. Он дал о ней восторженный отзыв, всячески ее рекомендовал, и, хотя его мнение имело меньший вес, чем даже крошечная заметка в «Монд-Африка», для меня было важно именно его слово, слово писателя. Мы с ним встретилась и обнаружили, что у нас один и тот же круг чтения, антипатии одинаковые, а разногласия минимальные, что у нас общие вкусы, что мы оба склонны к здоровому соперничеству, готовы соревноваться, но по-дружески, по-мужски, иногда с выяснением отношений; что мы почти ровесники и любим шататься по ночам в разношерстной и странной компании. И все же глубинной основой нашей дружбы стала незыблемая вера в мощное творческое начало жизни, которое для нас воплощалось в литературе. Нет, мы не думали, что литература спасет мир; напротив, мы думали, что она – единственная возможность не спастись от мира.
Итак, я ужинал с ним после матча и очень скоро завел разговор на интересующую меня тему.
– Как, ты говоришь, его зовут?
– Т. Ш. Элиман.
– Нет, это мне ничего не говорит. А как называется книга? «Лабиринт бесчеловечных»?
– «Лабиринт бесчеловечности»! Я несколько раз повторил первый абзац: «Вначале было пророчество, и был Король; и…» Увы, Мусимбва явно никогда не читал этих строк. Я хотел рассказать ему историю романа, по крайней мере ту незначительную ее часть, которую я знал. Но тут же понял, что не смогу: этот рассказ пожирал меня изнутри. Эту историю нельзя было ни пересказать, ни забыть, ни обойти молчанием. Но что делать с тем, что не поддается ни пересказу, ни забвению, ни умолчанию? Кажется, Витгенштейн высказался по этому поводу. Вот его слова: если о чем-то нельзя говорить, об этом следует молчать; ну, предположим, но, если о чем-то нельзя