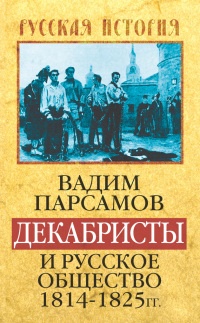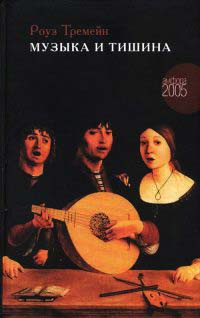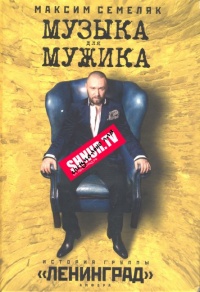Прекрасное остается прекрасным и тогда, когда оно не возбуждает никаких чувств, даже тогда, когда на него не смотрят и его не видят; следовательно, оно прекрасно для наслаждения созерцающего субъекта, но не в силу этого наслаждения[79].
Произведение искусства существует, даже если им никто не взволнован, и пытаться обосновывать свое ощущение незачем, потому что при этом всегда имеет место только характеристика субъекта и никогда – объекта…[80]
Нетрудно здесь заметить не только смысловое, но даже интонационное сходство. Адорно, полагавший, что «эстетическая форма – это не что иное, как выпавшее в осадок содержание»[81], имплицировал здесь опять-таки объективность критериев суждения о музыке; о той или иной степени «музыкальной объективности» говорили Стравинский, Бузони, даже Малер[82]. Все это привело к тому, что ряд ультрамодернистских тенденций в музыке и музыкальной теории 20-х годов прошлого века был назван «новой объективностью» (Neue Sachlichkeit); при этом характерно, что и в совсем другом идеологическом контексте, а именно в контексте советского «народного» искусства, объективность также полагалась практически догмой (создатель советского музыковедения Борис Асафьев в статье 1947 года говорит о «воле музыки в ее объективном становлении», что звучит совершенно по-адорниански[83]).
«Объективность» же существования произведения искусства, как уже было сказано выше, подразумевает наличие у него некоего особенного смысла, во многом это существование оправдывающего; в противном случае у него теряется прагматика, и оно с точки зрения «здравосмысленного», то есть утилитарного взгляда на культуру становится «ненужным»; так что мы еще не раз столкнемся с поисками такого рода смысла в музыке, равно как и с их неизбежными политическими и идеологическими импликациями.
* * *
Итак, теперь уже, видимо, можно ответить на вопрос, что является предметом нашего курса и что мы будем называть «современной музыкой». В нашем случае это будет:
1) музыка западная, то есть европейская или усвоившая ее правила, которая рациональна, рационализована и в двадцатом веке стремится в ряде случаев избавиться от своей рациональности;
2) музыка, пережившая кризис теоретических систем XVIII–XIX веков, в первую очередь – кризис системы тональной;
3) музыка, существующая в условиях возможности ее широкого распространения в отрыве от тех, кто ее производит; и, как следствие,
4) музыка, так или иначе вынужденная учитывать наличие мнений и вкусов аудитории и в той или иной степени подстраиваться под них или же демонстративно их игнорировать.
Такого рода музыка появляется на рубеже XIX–XX веков и в определенном смысле всегда нагружена проблематиками, связанными с вышеприведенными критериями.
Вот с ней и с ними мы и будем дальше работать.
Глава вторая
Ранний рок-н-ролл
Согласно общепринятой версии истории поп-музыки, рок-н-ролл появился тогда, когда белые производители музыки апроприировали и усвоили черную музыкальную форму (Сэм Филипс, основатель Sun Records, «открывший» Элвиса, говорил: «Если я найду белого, который сможет звучать как ниггер, я заработаю миллион долларов»[84]). Эта версия, хотя и содержит зерно правды, проблематична по целому ряду причин. Во-первых, нет такой особой музыки, как рок-н-ролл, – все жанровые и стилистические деления чаще всего изобретаются ретроспективно и отнюдь не музыкантами: как правило, их придумывает (или, по крайней мере, делает заметными) рекламная или маркетинговая инстанция[85]. Во-вторых, та музыка, которую мы сейчас, задним числом, называем рок-н-роллом, включала в себя и ряд элементов, присущих сугубо «белой» музыке. И, наконец, никакая музыка, никакой стиль или жанр не появляются прежде, чем возникает какая-то социальная страта, которая создает на них спрос: любая музыка, кристаллизуясь в какую-либо особенную форму, которую можно маркировать отдельным словом, всегда есть ответ на уже существующее социальное требование.
Таким образом, прежде чем говорить о рок-н-ролле, следует описать место и время его появления.
Америка от Второй мировой войны пострадала существенно меньше других стран-участниц; более того, во многом она только выиграла. Инфраструктура и производственные мощности были нетронутыми, ограничения военного времени быстро были сняты, и в силу ряда причин, в том числе и благодаря военной мобилизации рабочей силы, вскоре экономика страны стала показывать устойчивый и во многом беспрецедентный рост: в 1960 году валовой национальный доход по сравнению с 1940 годом удвоился[86]. Ссуды, выделяемые участникам войны по так называемому G.I. Bill, породили по всей стране строительный и образовательный бум[87]; росли зарплаты, потребительские расходы и даже уменьшалось экономическое неравенство между различными социальными стратами[88]. Та эпоха до сих пор воспринимается как золотой век: в 60-е годы его воспевали (причем, судя по всему, совершенно искренне) Джон Апдайк и Норман Мейлер[89]. Вдобавок за время войны существенно изменилась демография городов и труда: в производстве на место мобилизованных мужчин, да и просто в силу возросшей необходимости в рабочей силе, вербовались женщины (чья материальная и экономическая автономия всегда влияла на структуру городских развлечений) и приезжие из сельских районов, среди которых было много афроамериканцев[90]. Новые обитатели городов везли с собой свою музыку и свои вкусы: последующая популярность ряда черных стилей, приведшая в том числе и к появлению бибопа с рок-н-роллом, обусловлена во многом именно этой причиной. С другой стороны, белые городские жители в массовом порядке перебирались в пригороды[91], формируя характерную культуру замкнутых, расово и этнически гомогенных консервативных коммун[92], где почти нечем заняться после работы. Именно на подобную аудиторию в первую очередь стали ориентироваться рекламодатели нового и самого агрессивного медиума – телевидения[93].