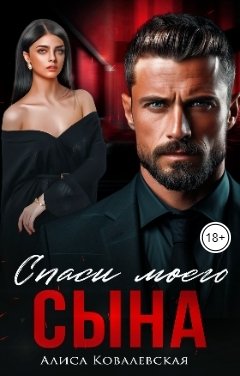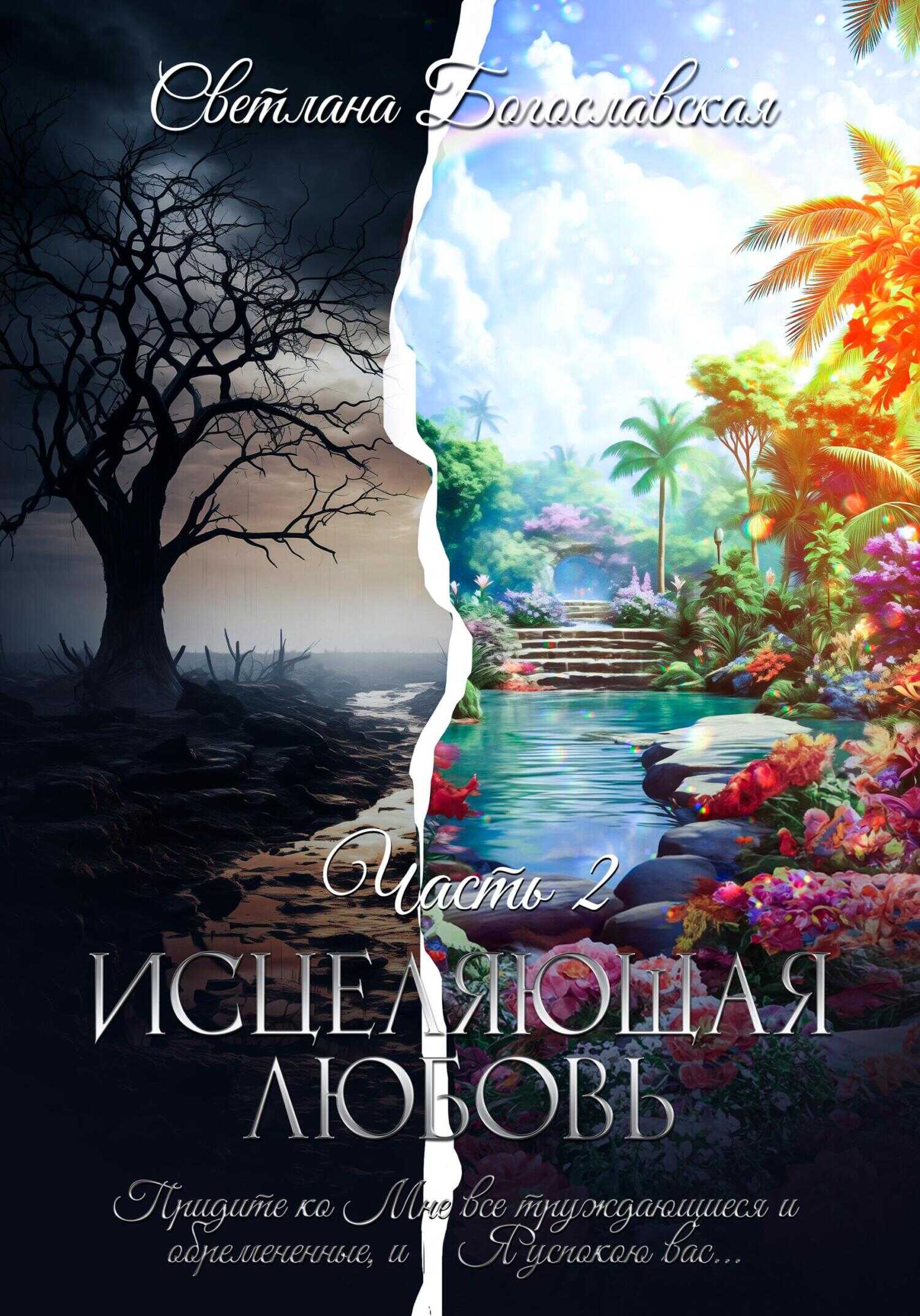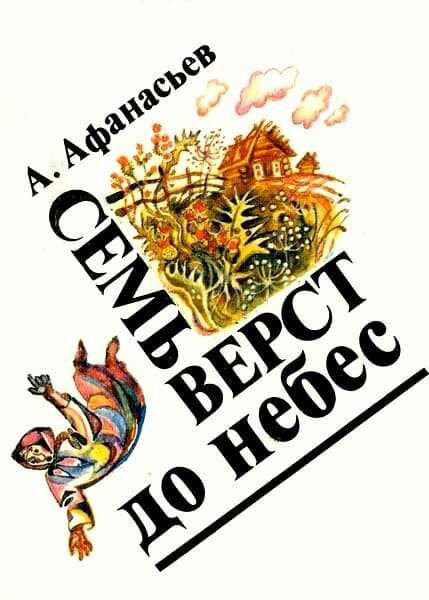идти и думать о будущем. И Никита представляет... Ночь. Дом незнакомки. Никита смотрит в окно ее комнаты, а там несколько человек и книги, книги... Никита знает, что социалисты всегда имеют дело с запрещенными царскими законами книгами. В окно видно все, что делают в комнате... Никита напрягает мозг и думает: что могли бы делать социалисты с книгами? Ну, известно, они читают запрещенные книжки и прячут их,— решает Никита. Но за этим появляется другая мысль: если только книги, так это небольшое дело и награда маленькая будет. Они должны делать что-то иное. Но Никита долго не может придумать, что могут еще делать социалисты?.. «Ага, они еще прячут бомбы»,— решает он. Вот он видит, как они делают бомбы и прячут их в карманы. Это очень важно, это очень страшно, и Никиту даже страх берет, что если будут бомбы, а он будет один, социалисты могут его убить. Это нехорошо, это страшно, а он должен быть один, абсолютно, чтобы ни с кем не разделять награду. Это не удовлетворяет. Надо что-то иное. Бомбы, но что-то иное, чтобы не могли убить его. Никита думает. Ага, вот так... Он подслушал, как социалисты уговариваются убить генерал-губернатора. (О таких убийствах Никита некогда читал в одной из книжек, это было еще в деревне...) Никита следит за ними. В воскресенье, когда губернатор поехал слушать молебен, социалисты тоже явились к церкви и ждут. Никита видит, как они шепчутся меж собой, он не спускает с них глаз. У церкви много людей. Выходит губернатор, и социалист намеревается бросить в губернатора бомбу, но Никита видит это и своевременно хватает социалиста за руки и кричит...
Никита настолько отчетливо представляет все это, что ему толпа на тротуаре начинает казаться толпой у церкви, и он намеревается кричать. Потом, опомнившись, опять продолжает рассуждать сам с собой... На крик оглядываются люди, смотрит, остановившись, губернатор, а он держит социалиста за руки и объясняет в чем дело. Социалиста берут и отнимают бомбы. По указанию Никиты задерживают и еще двух. Тогда генерал-губернатор подходит к Никите, обнимает его, целует три раза, благодарит за спасение жизни и вешает на грудь Никите какой-то орден и... и тут же объявляет о повышении Никиты в чине. Вокруг люди. Они смотрят на губернатора и Никиту и тоже благодарят Никиту, хвалят... Никита, озираясь на людей, становится во фронт перед губернатором и берет под козырек...
Полностью захваченный своими мыслями, Никита механически остановился на мгновение и поднес руку к козырьку. А в этот момент мужчина в шляпе и пальто, шедший навстречу, не заметил его и, не успев остановиться, ударился в его грудь, больно прижал мозоль на левой ноге. Никита, заметив перед глазами шляпу, хотел скорее уступить дорогу, попросить прощения, но оступился правой ногой в канаву у тротуара и упал на телеграфный столб. Человек в шляпе пошел дальше. Никита поднялся, пощупал голову и, выругавшись, по мостовой направился на другую сторону улицы. Кто-то захохотал вслед ему.
Хохот оскорбил. Никита быстрым шагом пошел домой, поминутно щупая рукою голову. В комнату вошел злой. Болела голова. Перед этим он, вытирая на крыльце сапоги, вспомнил Зубковича и, не раздумывая, решил, что сегодня Зубковичу правды не скажет.
Зубкович пьяный лежал на кровати. Он встретил Никиту бранью.
— Нюхаешь все? Следишь? Следи, следи!.. Может, барынька пожалеет тебя и плюнет в морду твою поганую... Если б дала барынька целковый, ты бы ручку ей целовал, на коленях бы перед нею ползал, но она целкового не даст, она плюнет тебе в морду... А ты поблагодари, подставь ей свою морду паскудную, это честь для тебя будет... Подставь...
Никита промолчал. Он быстро разулся, погасил лампу и лег. Слегка сконфуженный Зубковичем и злой после случая на улице, о котором напоминала боль головы, Никита скоро заснул.
А во сне опять видел социалистов и губернатора. Поздно ночью проснулся встревоженный. Кто-то ходил по комнате. Слышны были шаги босых ног, потом послышался горячий шепот, словно человек о чем-то кого-то упрашивал. Никита затаил дыхание и осмотрел комнату. Густая темень едва пробивается более светлыми пятнами окон. И напротив окна недалеко от кровати сгибается и разгибается над полом громадный силуэт человека, стоящего на коленях. Силуэт низко, до самого пола, сгибается в сторону угла, где над столом икона Ильи-пророка, поднимается опять, широко взмахивает в воздухе рукой — крестится, опять сгибается и тихо, горячо, неразборчиво шепчет слова молитвы.
Никита смотрит на человека, знает, что это Зубкович, и, однако, не может пошевелиться, лежит, как прикованный страхом к кровати. По телу бегают мурашки.
Зубкович тем временем поднялся с колен, на пальчиках подошел к кровати и тихонько лег. Кровать скрипнула. Он притаился и слушает, не проснется ли Никита. Никита молчит и, тоже притаившись, слушает. Но ему страшно от ночной молитвы Зубковича, он не может уснуть и через несколько минут спрашивает.
— Ты чего это, брат, а?..
Зубкович еще более затаился, помолчал минуту, но ему тоже трудно молчать, и он шепчет.
— Молился я... Глупая наша жизнь, я это тебе только говорю, слышишь, чтоб никому больше. Мы царю должны служить и служим, нас должны за это уважать люди, а нас боятся, нас презирают, нас за собак считают... Я не первый год служу, я много их брата видел. Все они такие квелые на вид, их немного, а мы их боимся... У них разные есть: и жиды, и православные, и католики, и из простого народа, и из господ... Если правда у нас, чего ж мы боимся. Если враги они, так чего мы от них прячемся? А? Я, брат, над этим думал...
Зубкович на руках поднялся на кровати, вытянулся в сторону Никиты и шепчет. У Никиты появляется желание признаться, что и его посещали такие мысли, но он вспоминает незнакомку и вместо этого ни с того ни с сего спрашивает:
— Чего ж ты служишь, если трудно?
— А куда ж мне,— ответил Зубкович,— мне некуда больше, привык я к этому хлебу.
Помолчал немного, ждал, что скажет Никита, и, не дождавшись, опять зашептал.
— Служба у нас собачья... Следим мы, полиция сотнями их арестовывает, и не только в нашем городе, а всюду, по всей России, а они все есть и есть... Хотим мы их по одному переловить да в каторгу поссылать, а ничего не выходит, потому что так не надо...— Он зашептал еще тише.— Надо собрать всех,— кто за царя, за веру,— весь народ, и