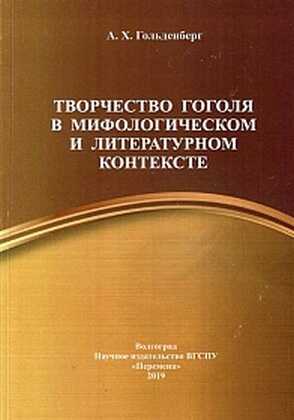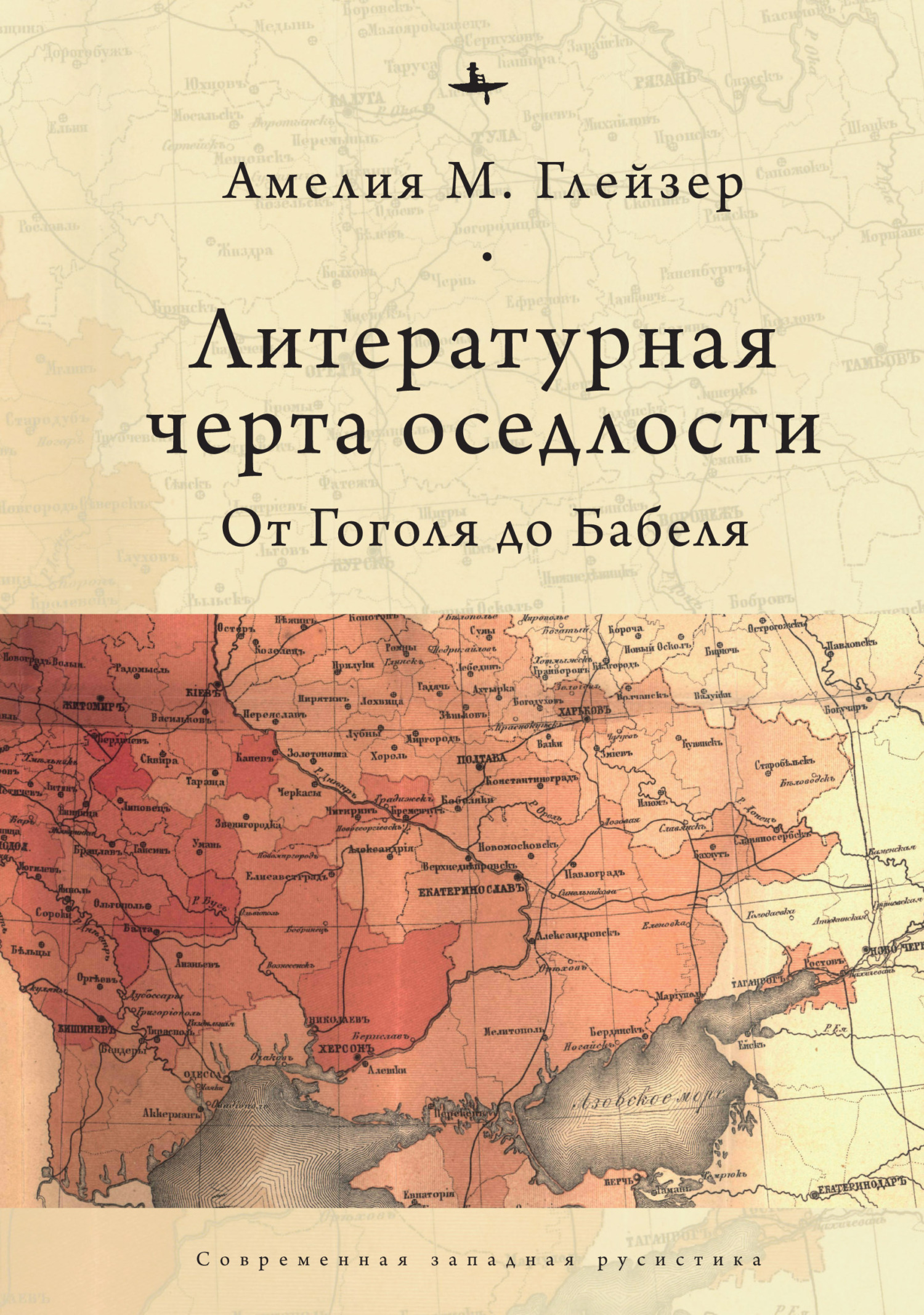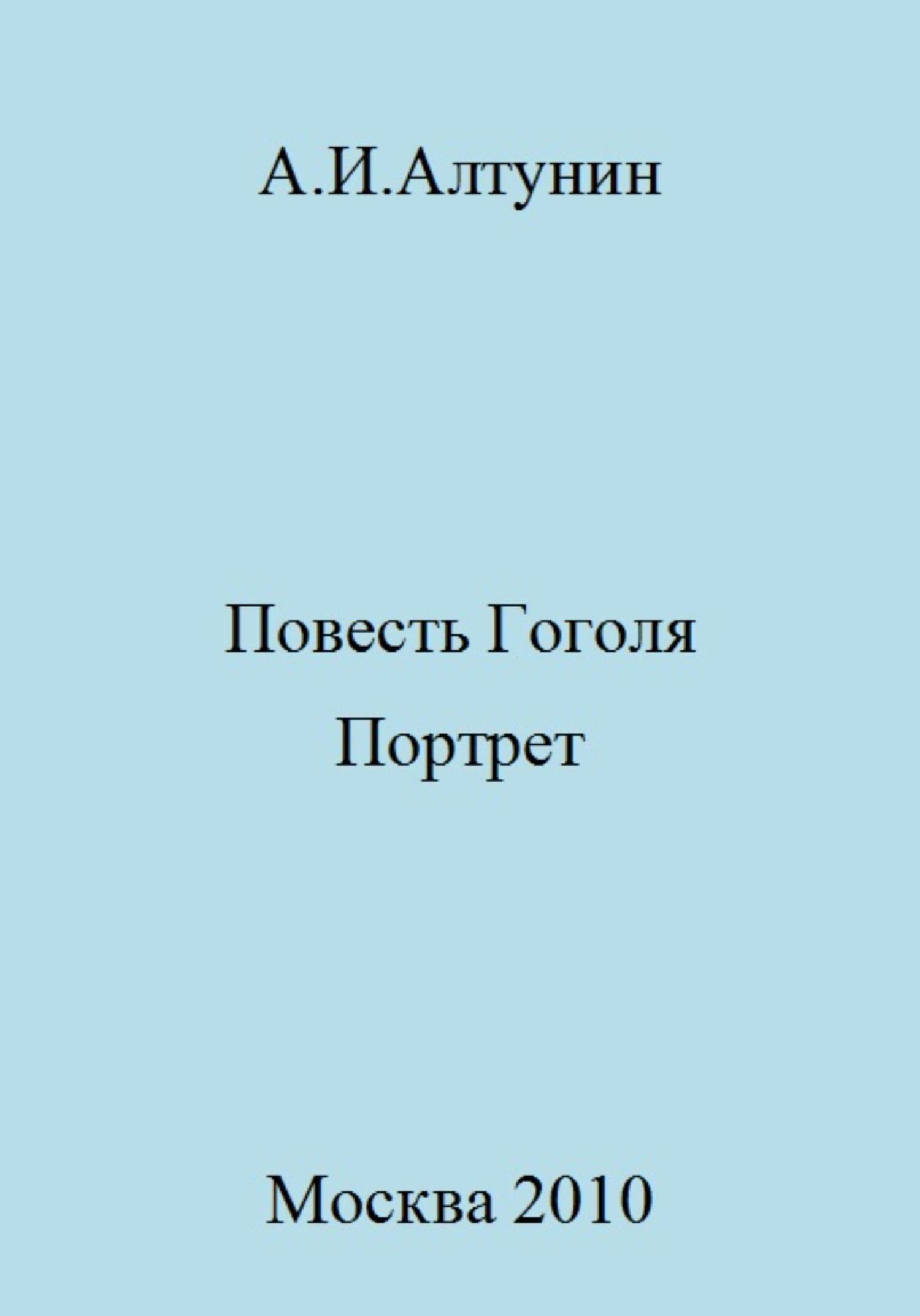он осваивает залежи человеческих свойств, берет пробы грунта, опускается в прорытые им погреба и подземные галереи, где человек нередко имеет вид ископаемого, минерала, определенного слоя, в котором автор прокладывает своим повествованием шурф. Работу Гоголя в этой области, условно назовем, психологии можно живописать словами Гофмана:
Роясь, как крот… работая при бледном свете рудничных ламп, рудокоп укрепляет свой глаз и может дойти до такого просветления, что в неподвижных каменных глыбах ему, иной раз, представляются отраженными вечные истины того, что скрыто от нас там, далеко, за облаками! (“Фалунские рудники”)
Интерес Гоголя к элементарным проявлениям жизни, к типам и классам человечества (почти о любом из его героев можно сказать, как сказано автором о Манилове: “есть род людей…”), к основополагающим законам и свойствам, за счет известного пренебрежения индивидуальным лицом и характером, сопряжен зачастую с разрешением каких-то метафизических загадок и тайн мироздания, обнаруженных там, где никто обычно их не видит и не находит. Возведение образа к типу шло параллельно, а иной раз было тождественно низведению человека к среде, к месту, к земле с ее кладами и рудниками. Такова, скажем, загадка пошлости, над которой бился Гоголь, смеясь или негодуя над бессмысленным оплотнением живого духа в веществе существователей, но вместе с тем терзаясь сомнениями – “не страшно ли великое она явленье”, эта пустая и праздная жизнь (“жизнь бунтующая”, как назвал он ее в благоговейном ужасе), не признающая никаких возвышенных целей, быть может оттого, что она до времени копит нечто более капитальное в своих каменных подвалах. По поводу “Старосветских помещиков” восхищенный Шевырев оговаривался:
Мне не нравится тут одна только мысль, убийственная мысль о привычке, которая как будто разрушает нравственное впечатление целой картины. Я бы вымарал эти строки… (“Московский наблюдатель”, 1835, кн. 2)
Между тем эта мысль о привычке – “долгой, медленной, почти бесчувственной”, которая превосходит самую верную и одухотворенную любовь, которая сильнее смерти и жизни человеческой, – не только является центральной идеей произведения, но и весьма актуальна для Гоголя с его географией истории и метафизикой элементарного быта, с его склонностью задаваться головоломными вопросами над простейшими клетками и молекулами материи. Отчаявшись после первого тома “Мертвых душ”, Гоголь во втором томе во имя “нравственного впечатления картины” взялся рубить сплеча завязанный им же самим гордиев узел вопросов и ничего, кроме благих намерений, этим не сумел доказать. Ему до́лжно было бы быть более ползучим и мудрым – в согласии с “убийственной мыслью о привычке”, в соответствии с праздно бунтующей жизнью и толпами вопросов о ней. Ведь помимо нравственного негодования и безлюбого равнодушия, озаряющего холодным светом эту коллекцию монстров, собранную в его кунсткамере, здесь присутствует также скрытое восхищение перед таинственной игрою природы, сотворившей эти странные скопления движущих миром энергий, эти чудовищные прообразы ее же, природы, стихийных сил… В самом деле, не помещики же они и только, а если – типы, то не только людей – типы элементов и сущностей, составляющих тело земли, народа, мифологические фигуры, подобно языческим божествам, восседающие в безднах. А что они – мертвые, так даже и лучше. Подземное царство. Домашние боги-предки. Тот свет…
Странное дело! В поэме Гоголя, имеющей глобальный замах, только и разговоров, что о мертвых – с мертвыми же (в иносказательном смысле) владельцами мертвых. В своем апофеозе удачливого приобретателя душ Чичиков до того входит в буквальность этой покупки, что приказывает Селифану собрать мертвецов, предназначенных на вывод, в Херсонскую землю, и сделать им поголовную перекличку. Словом, всё полнится смертью, свирепствующими по стране эпидемиями и массовыми падежами, подсчетами, сколько у кого перемерло, и поименной регистрацией мертвых. Не зря Вяземский сравнивал “Мертвые души” с “Пляской мертвецов” Гольбейна. И в этой-то мертвенной атмосфере поэма Гоголя, как на дрожжах, вспухает урожаем всяческой материи, живности, жратвы, вещей, упитанных телес, словесной и пространственной массы. Под аккомпанемент речей о покойниках в мире смерти творится пир изобилия, причем это не звучит каким-то резким и трагическим диссонансом, подобным, например, пиру во время чумы, но естественно вытекает одно из другого. Могила здесь обеспечивает материальный достаток, является матерью богатства. Побьется Чичиков с Коробочкой над заключением фантастической сделки, переведет умерших мужиков от Коробочки в свой заветный ящик и садится уписывать блины. Те блины прямое производное операции с мертвецами, список блюд непосредственно следует за списком купленных душ. Это какое-то рождение сочной и вкусной плоти из могильного духа и праха.
…Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: “Экой длинный!” Другой имел прицепленный к имени – “Коровий Кирпич”, иной оказался просто: “Колесо Иван”. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.
“Прошу покорно закусить”, сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и ни весть чего не было.
Мертвые души в произведении Гоголя обладают плодоносной, физиологической силой, по примеру хтонических божеств преисподней, подземных подателей земного богатства. Всего вероятнее, на это значение Гоголь в поэме и не рассчитывал. Взаимозависимость жизни и смерти, изобилия и могилы, возможно, имела целью представить единообразие этих явлений, равно бессмысленных и гибельных в царстве неодухотворенной материи, на религиозно-нравственный взгляд (в аспекте, допустим, известного изречения Блаженного Августина, сказавшего о своем рождении: “…Не ведаю, откуда пришел я в эту то ли мертвенную жизнь, то ли жизненную смерть”). Не исключается и апокалиптический смысл в хождении Чичикова по мертвому промыслу (по слову того же Августина: “Христос придет судить живых и мертвых не прежде, чем придет для обольщения мертвых душою антихрист”). Но помимо того, независимо от намерений автора, в поэме слышатся отзвуки первобытно-языческих мифов. Ближе всего это связано с тем, что можно назвать “гилозоизмом” Гоголя, с его представлением земли в виде живородящей стихии, и следом за нею – царства мертвых в виде всемирной житницы. В этом отношении “Мертвые души” языком современной повести и поместно-провинциального быта продолжают древнюю сагу, пленившую Гоголя в “Страшной мести”, – о мертвецах, бесконечно растущих в земле и составляющих ее фундамент и плоть (“Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда” и т. д.). Непропорционально растянутое, склоненное к переполнению текста, тело поэмы – тоже своего рода мертвец, плодоносящий материальным и словесным избытком,