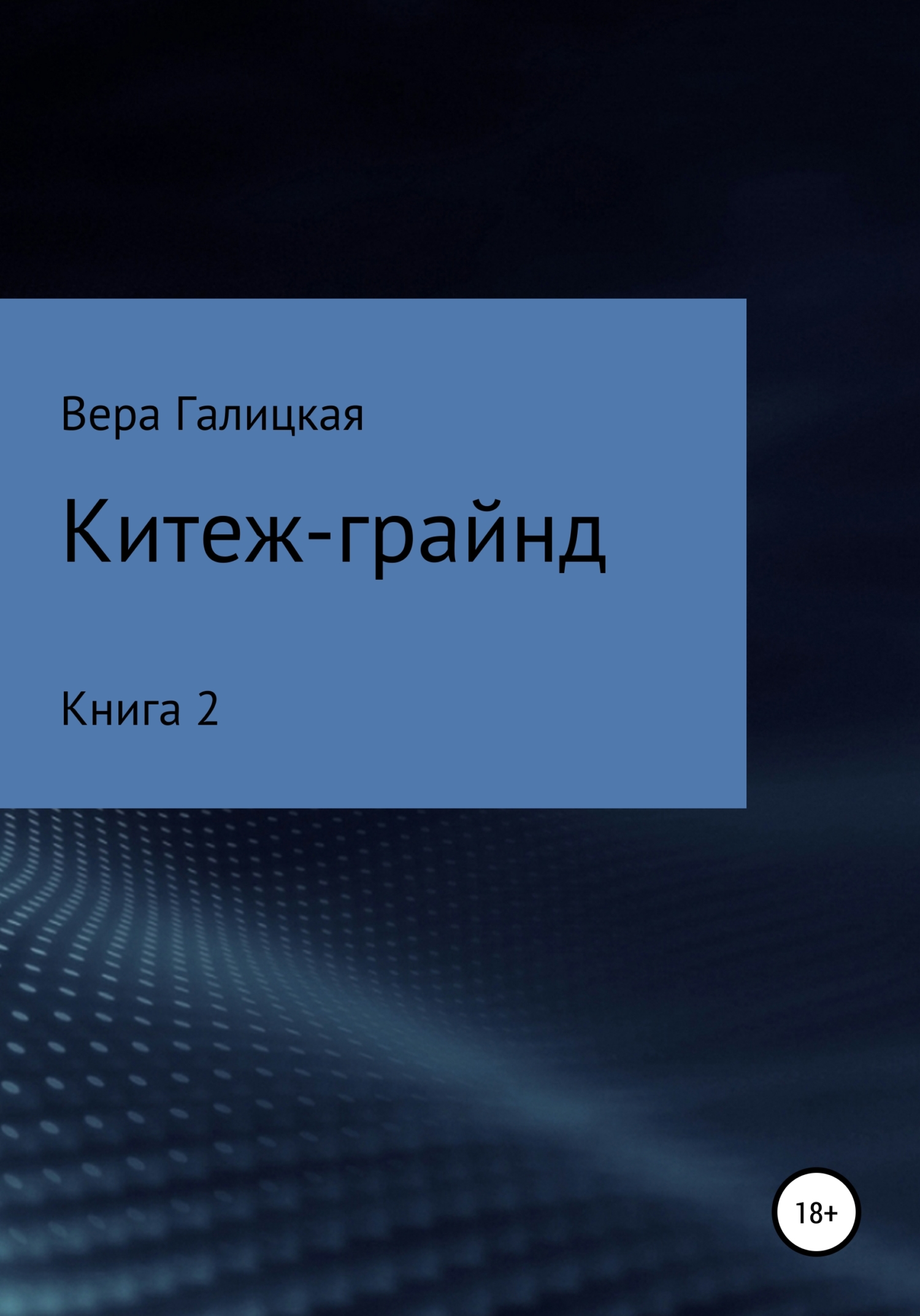алкая ее близости и глядя в бескрайнее небо. Я кладу на лед пальцы – ногти на них длинные и острые – и глажу блестящую поверхность. Не волнуйся. Она больше не страдает. А ты теперь со мной. Ты всегда будешь со мной.
Я поднимаюсь и иду дальше. Ощупываю силой всех, кто безмолвно наблюдает за мной сквозь толщу льда.
Вы все – мои дети.
Дойдя до середины озера, снова поднимаю голову к небу – и смотрю, пока глаза не начинает слепить от бесконечной белизны. Вот почему Зимняя Дева теряет душу. Теряет свою человечность. Она должна перестать любить живых – и полюбить мертвых.
Я возвращаю взгляд на озеро. В его водах – испитые до дна жизни. Страхи и отчаяние, желания и надежды. Все они теперь принадлежат мне. А мертвые пусть спят спокойно.
Я пересекаю озеро и направляюсь в сторону деревьев.
Люди умирают каждую секунду. Они конечны. А смерть – нет. Она – самая естественная вещь на Земле. И ей не важно, думают люди о ней или нет.
Она все равно придет.
* * *
Антон
Дозировки Петрович мне выписал лошадиные.
Изначально он вообще не хотел отпускать меня из своего лазарета. Пугал то воспалением, то осложнениями, то гангреной. А когда понял, что все бесполезно, плюнул, дал рекомендации, бинты и лекарства и велел катиться на все четыре стороны. И не возвращаться к нему, если станет хуже.
Я стоял в маленькой ванной в комнатке на кладбище и набирал в шприц лекарство уже из второй ампулы. Антибиотик был ядреный, жег при введении, но колоть надо было всего дважды в день – утром и вечером. Плюс ежедневно менять повязку. Рана потихоньку затягивалась. Я сам видел, что воспаления нет, а заживление – только дело времени. Еще пара недель, и останется только шрам.
Мне полегчало настолько, что я совершил вылазку во флигель Спартака по соседству, пока туда не нагрянула полиция. Быстрый осмотр помещения показал две вещи: Спартак, похоже, действительно был верующим. На стене у кровати висело распятие и пара листков с записанными от руки цитатами из Библии. Одна привлекла мое внимание: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Не то же ли делают и мытари?»
Ты-то мытарь еще тот… От большой любви к ближнему, видно, стрелял сначала в меня, потом в Веру. Еще и смотреть нас на это заставил.
Я нашел в его прикроватной тумбочке аккуратно заполненные ежедневники из черной кожи. Пока ждал пробуждения Веры, пролистал их – все равно больше делать было нечего. Этот двинутый фанатик записывал по дням, насколько она раскаивалась. Сначала он был ею доволен: «По всему видно, что девочка сильно сожалеет. Ходит к Тёмке как на работу. Раз в три дня обязательно. Долго протирает надгробие. Иногда украдкой плачет». Но к концу лета его впечатление явно испортилось. Заметок стало меньше. Пятнадцатого сентября он написал: «Заинтересовалась А. М. Прости Господи ее грешную душу». Нетрудно было догадаться, что А. М. – это Аскольд Мирин.
Я взболтнул содержимое шприца и выпустил воздух. Готово. Теперь ватка, спирт. Поворачиваться после операции на брюхе – то еще удовольствие, но мне не привыкать. Главное, не дергаться и все делать плавно: сначала мазнуть ваткой, потом воткнуть иглу, медленно надавить на поршень. Минута мучения, и все позади. Подумаешь, пощиплет немного.
Теперь повязка. Я оперся на тумбочку, пережидая, пока отпустит тошнота. Пару раз уже чуть не свалился в обморок, но в последний момент все-таки отпускало. Дышать, главное – дышать и следить за пульсом. Если поскачет, лучше присесть куда-нибудь от греха…
На этот раз прошло быстро. Я снял повязку, в тусклом свете верхней лампы разглядел в маленьком круглом зеркальце края раны. Отек потихоньку сходил, хотя выглядело это великолепие жутко: фиолетовое в центре и красное по краям. Я глубоко вздохнул. С последней таблетки обезболивающего прошло четыре часа, можно принимать новую. Сейчас сменю бинт и вернусь к Вере.
Эти три дня я почти ничего не делал. Мыслей было столько, что хоть на стенку лезь. Как вышло, что Дарина умерла, а Вера нет? Разве что Дарина успела кому-то передать силу. А если нет – будет у нас теперь мертвая осень вместо мертвой зимы?
Дальше. Что делать с Тёмой, которого в итоге забрал к себе Мирин? Как котенка на передержку, ей-богу… А ведь когда-то нужно будет решать. Но сначала – дождаться, пока Вера проснется.
Когда не читал ежедневник Спартака, не возился с раной и не готовил из нехитрых ингредиентов, которые привез с собой, я обнимал ее поверх одеяла. Вера лежала неподвижная, тихая, с закрытыми глазами и словно бы просто спала. Я говорил с Кириллом, и тот подтвердил: она действительно спит, но скоро очнется. Напоследок он похихикал над нашей тупостью. Дескать, вы милые, но такие бестолковые – до последнего думали на Осеннюю Деву.
Я выдавил на бинт заживляющей мази и приложил к швам, привыкая к влажному холоду. Одно слово – Смотрящие. Смотреть – смотрят, а вмешаться или подсказать…
– Привет.
Я чуть не выронил марлю. В проеме стояла Вера. На ней было то, во что я одел ее три дня назад, – длинная футболка с «Раммштайн», черные лосины и шерстяные носки. Я понятия не имел, способна ли Зима замерзнуть. Побелевшие волосы лежали на плечах. Глаза были странные. Вроде и Веры – внимательные, пытливые, – а вроде бы отрешенные и чужие.
– Привет.
Я одернул кофту. Перевязка может подождать. Я не знал, что сказать, поэтому спросил:
– Ты как?
Она потрогала футболку на груди.
– В меня стреляли?
– Да. Спартак. Хм… Ты звала его Лексеич. Это он подкинул тебе букет и кожу, чтобы ты раскаялась. Решил спасти наши души через страдания. Поэтому стрелял сначала в меня, потом в тебя.
Вера молчала, касаясь пальцами места на плече, где вышла пуля. Когда я переодевал ее, видел белесый шрам, похожий на звезду. Похоже, ее тело действительно само залечило рану.
Вера смотрела в сторону, будто что-то вспоминала.
– Я его убила, – задумчиво произнесла она.
– Твоя сила его убила.
Вера снова замолчала. За исключением худобы и бледности, выглядела она вполне живой. Не слишком здоровой, но живой.
– А Дарина умерла?
– Да.
– Понятно.
Она напоминала старый компьютер, который подгружал данные со скоростью улитки.
– А ты? – внезапно спросила она. – Тебе больно?
– Нет.
Она склонила голову, вглядываясь в то место, куда я собирался прижать свежую марлю.
– Я чувствую, что больно. Там, – она указала пальцем мне на грудь, –