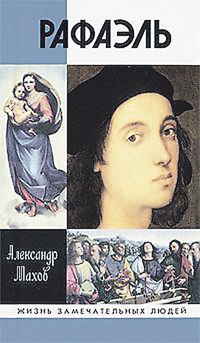Сроки поджимали, и нужно было заканчивать семейный портрет понтифика. Но Тициан все не решался нанести окончательные мазки. А тут еще до него дошел слух о новой неприятности, обрушившейся на голову папы Павла, который был уверен, что после уплаты Карлу умопомрачительной суммы за Парму и Пьяченцу тот, как было оговорено, назначит внука папы Оттавио губернатором Милана — эта должность освободилась после неожиданной смерти маркиза Альфонсо д'Авалоса. Но император в последний момент передумал и предпочел видеть на этом посту преданного ему воинственного герцога Ферранте Гонзага, брата покойного правителя Мантуи и злейшего врага клана Фарнезе. Для папы Павла, этого непревзойденного мастера политических интриг, решение Карла означало крушение всех его планов. Но пойти на попятный он никак не мог. Обхитривший его император, так удачно пополнивший свою казну, обещал военную помощь в борьбе против врагов Римской католической церкви. Он же вынудил папу созвать церковный собор не в Болонье, а в Тренто — поближе к границе с германскими землями.
В такой ситуации напоминать об обещанном месте каноника в аббатстве Сан-Пьетро ин Колле для сына было бесполезно. Никто из папского окружения не хотел об этом даже слышать, считая, что художнику и без того оказана великая честь писать портрет Его Святейшества. Дальнейшее пребывание при папском дворе для Тициана потеряло всякое значение, и он решил выставить на суд папы незавершенную пока работу.
В назначенный день в зале показался папа Павел со свитой и двумя внуками. Едва он взглянул на картину, как тут же почувствовал, что ноги у него деревенеют, а на лбу выступает испарина. Он схватился за стоящего рядом кардинала Алессандро, а услужливый Оттавио поспешил подставить ему стул. Вероятно, папу обуял страх, когда вместо парадного портрета, как у Рафаэля на изображении папы Льва X с племянниками, он вдруг увидел ненавидящих друг друга людей, даже не скрывающих свои истинные чувства. Павел понял, что художник показал изнанку его души, словно подслушав на исповеди признание в тяжких грехах и раскрыв их тайну. Высунувшаяся из-под горностаевой мантии левая рука, похожая на когтистую лапу зверя, колючий злобный взгляд и безжалостно отмеряющие земное время песочные часы, стоящие на красном столе, — все это окончательно вывело из себя понтифика. Он поднялся, пробурчав что-то в знак благодарности, и поспешно удалился. Точно по команде, за ним молча последовали и все остальные. Больше его Тициан не видел. Ему передали, что Павел наотрез отказался позировать дальше, заявив, что пусть художник возвращается восвояси и пишет там венецианских дожей. Тициан не оправдал звания папского художника и, не в пример божественному Рафаэлю, оказался в Риме не ко двору.
Он быстро собрался, оставив в Бельведере недописанное полотно, и в сердцах покинул Вечный город — сюда он больше ни ногой, пока верховодит клан Фарнезе. Но навестивший его перед самым отъездом кардинал Алессандро намекнул, что вопрос о месте каноника в аббатстве Сан-Пьетро ин Колле все еще остается открытым и может быть решен несмотря ни на что. Он смог уговорить Тициана заехать в Пьяченцу, где его отец Пьерлуиджи Фарнезе желает быть запечатленным на холсте. Кардинал выделяет художнику для этой поездки удобный экипаж из ватиканского каретного двора.
Прежде чем выполнить просьбу кардинала, Тициан, как ни отговаривал его Вазари, остановился во Флоренции в надежде на заказы богатого двора Медичи. Его принял сам правитель Козимо — щуплый молодой человек с невзрачным лицом землистого цвета. Во время краткой аудиенции, а в приемной, как пояснил церемониймейстер, ждали своей очереди придворные мастера — скульптор Бандинелли и живописец Бронзино, Тициан узнал, что хозяин дворца получил портрет Аретино, бывшего секретаря своего покойного родителя. Портрет хорош, как отозвался о нем Козимо Медичи. Но он пока не знает, где можно его разместить, так как во дворцовой картинной галерее сплошь знатные персоны и царственные особы. При расставании Козимо поднялся с кресла, оказавшись большеголовым с торчащими ушами коротышкой в княжеском облачении. Его фигура выглядела особенно гротескно на фоне величественной фрески Беноццо Гоццоли «Процессия волхвов». При всем желании статности и красоты такому на портрете не прибавишь. Пусть уж его ублажают местные умельцы, которые навострились живописать лики, достойные дворцовой галереи, а его увольте от подобных экзерсисов!
По выходе из дворца Тициан, погруженный в невеселые мысли, чуть не натолкнулся на установленный на углу аляповатый монумент Джованни делле Банде Нере, отца нынешнего хозяина Флоренции. Потом он зашел в церковь Сан-Лоренцо, чтобы повидать Новую ризницу, лет десять назад возведенную Микеланджело и украшенную его изваяниями. В ризнице не было ни души, и он углубился в созерцание открывшегося ему чуда. Какая возвышенная композиция и сколько глубины заключено в скульптурах сидящих друг против друга двух усопших отпрысков клана Медичи и четырех аллегорических фигур, окаймляющих надгробия! Казалось, даже тишина обрела пластическую осязаемость, как и застывший в молчании воздух под сводом часовни и в ее боковых нишах.
Тициану показалось, что тишину вдруг нарушила обнаженная фигура Ночи, которая обратилась к нему, заговорив голосом Микеланджело:
Мне дорог сон. Но лучше б камнем стать В годину тяжких бедствий и позора, Чтоб отрешиться и не знать укора. О, говори потише — дай мне спать.
Такого потрясения он не испытывал ни перед одной античной скульптурой в Риме. На выходе, как было оговорено, его ждали старый знакомый литератор Варки и Орацио. Они вместе направились ко дворцу Строцци, куда были приглашены на обед его хозяином Роберто Строцци — портрет его двухлетней дочери Клариче когда-то был написан Тицианом. Их путь пролегал мимо восьмигранного баптистерия Сан-Джованни, где был крещен Данте, а на его восточной стороне находились Райские врата — великое творение литейного искусства работы Гиберти. Поскольку время поджимало, было решено посетить позже главный собор, увенчанный, как короной, гигантским куполом Брунеллески, который бросает дерзкий вызов взметнувшейся рядом к небу готической колокольне Джотто. Флоренция — это настоящее поле битвы между соперничающими гениями.
А вот и площадь Синьории, где такое соперничество еще более наглядно, хотя стоящая перед входом в Палаццо Веккьо статуя микеланджеловского Давида затмевает все, что воздвигнуто на площади, не говоря уже о водруженном рядом по приказу герцога Козимо мраморном колоссе Геракла с палицей в руке — его сотворил придворный ваятель Бандинелли, явно желающий посоперничать с самим Давидом. Однако язвительные флорентийцы быстро оценили новую статую по достоинству. Колосс стал притчей во языцех, над которым открыто потешались все, кому не лень. Кое-кто из острословов за дерзость даже угодил в карцер. Вот один из образчиков народного творчества, который процитировал Варки:
На площади с дубиной великан — Нелестное соседство для Давида. А флорентийцам кровная обида: Гераклом наречен сей истукан.
Флорентиец Варки завел венецианских гостей и во дворец, где также витал этот дух соперничества, особенно в его парадном зале Пятисот, в котором до сих пор стояли знаменитые картоны Леонардо и Микеланджело. Копии с них Тициану уже доводилось видеть. Рассматривая теперь оригиналы, он, вероятно, вспомнил свою «Битву при Кадоре» с превосходно отраженным в ней накалом сражения и вряд ли нашел повод, чтобы упрекнуть себя в чем-либо.