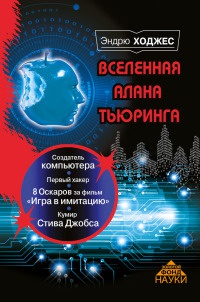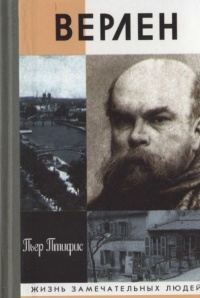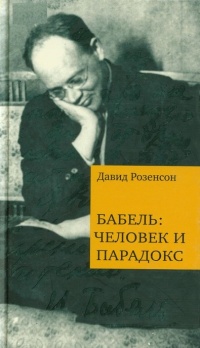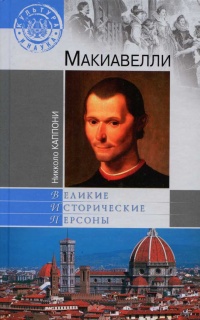Ознакомительная версия. Доступно 31 страниц из 155
Случайные намеки, возможно, обеспокоили некоторых клозетных гомосексуалистов среди «скверных парней»:
«Уходят прочь мои сожаления, – зависть к нищим, к разбойникам, к приятелям смерти, ко всем недоразвитым душам. Вы прокляты, если б я отомстил…»[480]
Немногие заметят, однако, что «Одно лето в аду» начинается с кавычек, отделяющих «Рембо» на обложке от «я» в тексте. Это был очередной этап экспериментальных Déserts de l’amour («Пустынь любви»). Следуя романтической традиции, шатобриановскому «Рене» или «Исповеди сына века» Мюссе, «Пустыни любви» были представлены в предисловии как сны смущенного, но типичного подростка[481]: «записи молодого, очень молодого человека… без матери или родины», «избегающего всех нравственных принципов, как и некоторые заслуживающие жалости юноши до него». «Он отдал всю свою душу, все свое сердце и все свои силы ошибкам, странным и печальным».
Новый выбор декораций был также романтической банальностью. С начала XIX века дорога в ад была забита поэтами. «Ад» обычно олицетворял большой город и его население из бессердечных коммерсантов, проституток и книжных рецензентов. Рецепт редко менялся. Поэт был излишне чувствительным молодым стариком, который вспоминал счастливое усредненное детство и считал собственные неудачи и страдания сокрушающим осуждением общества. Надпись у входа в Дантов Ад Lasciate ogni speranza… («Оставь надежду…») неизменно используется в качестве заголовка или эпиграфа. Если поэт был социалистом, надежда воплощалась в благотворительности и надежных статистических данных; если католиком – в Святой Деве, матери или различных символах, таких как отражение неба в канаве[482].
Как Бодлер, который когда-то думал о публикации своих стихов под названием Les Limbes («Лимб» – один из кругов ада), Рембо играл на двойственной идентичности ада: христианской и классической. Его название также напоминает о приключениях Энея в преисподней, или о столь любимой парнасцами Персефоне, которая проводила летние месяцы с мужем Гадесом (Аидом), заточенная в темноте, как семена урожая следующего года. Возвращение Персефоны в верхний мир было периодом осеннего сева – satio (в родительном падеже – sationis). От этого латинского слова и произо шли английское слово season и французское saison.
В соответствии с мифом, вымышленный временной период «Одного лета в аду» идет с весны («И весна принесла мне чудовищный смех идиота») до осени («Осень уже! Но к чему сожаленья о вечном солнце, если ждет нас открытие чудесного света…»). Дата в конце – «апрель – август 1873 года» – может быть скорее символической, чем исторической.
На этот раз Витали не записала в дневнике ничего о появлении брата в Роше, но она все-таки отметила его отсутствие в поле:
«Мой брат Артюр не разделяет наших трудов на ферме. Перо дает ему занятие достаточно серьезного характера, чтобы не допустить его присоединиться к нам в нашем ручном труде»[483].
Рембо писал свою книгу под аккомпанемент оживленного фермерского двора – топот сапог, кудахтанье кур – и восклицаний досады мадам Рембо. Его фразы – не неторопливые предложения непрерывного разговора, а крики и ворчание того, кто занимается физическим трудом. («Духовная битва так же свирепа, как сражения армии…»)
«Любое ремесло внушает мне отвращенье. Крестьяне, хозяева и работники – мерзость. Рука с пером не лучше руки на плуге. Какая рукастая эпоха! Никогда не набью себе руку. А потом, быть ручным – это может завести далеко».
Месяц спустя две сестры выходили в сад и, возвращаясь с раскрасневшимися словно яблоки щеками, находили брата Артюра склонившимся над письменным столом. «Настала пора сбора урожая, – писала Витали. – Мы все более или менее помогаем»[484].
«Однако кто создал мой язык настолько лукавым, что до сих пор он ухитряется охранять мою лень? Даже не пользуясь телом, чтобы существовать, и более праздный, чем жаба, я жил везде и повсюду. Ни одного семейства в Европе, которое я не знал бы. – Любую семью я понимаю так, как свою: всем они обязаны декларации Прав Человека».
Любое краткое изложение «Одного лета в аду» можно легко опровергнуть цитатами из текста. Ни одна из идей не отделена от мозга, который их создал. Вес традиции и диапазон намеков Рембо постоянно испаряется быстрым движением мысли. Это не полуфабрикат отрывочного опыта, называемый «темой», а ментальные события, явно описанные так, как они происходили.
Это придает тексту бодрящую интеллектуальную шероховатость, напоминающую Монтеня. Другие поэты, кажется, напротив, говорят о себе, заглушая собственный внутренний голос. Как обнаружил Верлен на своем опыте, у Рембо была изнурительная способность поддерживать внутренние разногласия, не разрушая структуры. «Одно лето в аду» было продуктом предпринимательского ума, который находил стимул не в самодовольном закреплении успеха, но в разочарованиях, тупиках и даже в собственной «глупости»:
«Но я замечаю, что спит мой разум.
Если бы, начиная с этой минуты, никогда б он не спал, – отыскали б мы вскоре истину, которая, может быть, нас окружает со своими ангелами, льющими слезы…
[…] Если бы никогда он не спал, – я в глубины мудрости смог бы теперь погрузиться…»
«Одно лето в аду» следует читать в первую очередь без сомнительной помощи комментариев (включая и эти). Возможно, идеальное карманное издание будет содержать введение в десяти словах – остроумная реплика Рембо, когда его мать спросила, что это значит: «Это значит то, что значит! Оно говорит, буквально и во всех смыслах»[485]. Так называемая туманность «Одного лета в аду» – частично эффект критических инструментов, имеющих к нему отношение[486]. С самого начала возникает ощущение абсолютной ясности, даже в психологической небрежности:
«Когда-то, насколько я помню, моя жизнь была пиршеством, где все сердца раскрывались и струились всевозможные вина.
Однажды вечером я посадил Красоту к себе на колени. – И нашел ее горькой. – И я ей нанес оскорбленье. Я ополчился на Справедливость.
Ударился в бегство. О колдуньи, о ненависть, о невзгоды! Вам я доверил свои богатства!
Мне удалось изгнать из своего сознания всякую человеческую надежду. Радуясь, что можно ее задушить, я глухо подпрыгивал, подобно дикому зверю».
Первый раздел, озаглавленный Mauvais sang («Дурная кровь»), – это увертюра, в которой изложены дилеммы, над которыми ломают голову или желают от них избавиться. Взгляд в прошлое показывает, что не существует средства от беспочвенности. Рассказчика терзает идея «спасения», но его «языческая» душа не отвергается даже в уверенности проклятия:
Ознакомительная версия. Доступно 31 страниц из 155