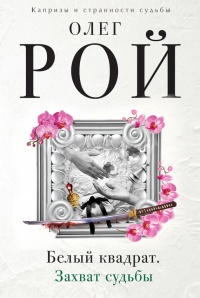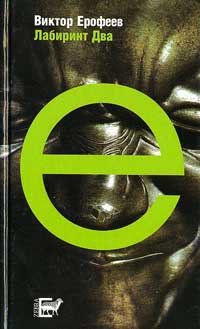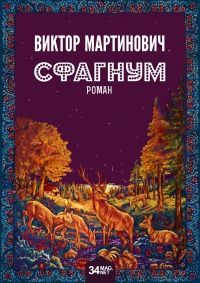Ознакомительная версия. Доступно 26 страниц из 129
Маша принесла из дома корзину, стала собирать опавшие яблоки. Он следил, как тянется в траве ее тонкая рука. Пальцы раскрываются навстречу светящемуся среди стеблей яблоку. Вместе с любимой он сидел под яблоней, среди перестоялой травы, в заросшем, одичалом саду, самовар с наивной купеческой геральдикой благодарно шумел, выдыхая пахучий дым и прозрачный жар, и кто-то третий, почти несуществующий, о ком было странно и сладко думать, был среди них, соединял их в неразрывное святое единство.
Он внес в избу самовар, навесив над столом кудрявый дымок. Она принесла корзину пахучих яблок. Срезала на клумбе два малиновых георгина, поставила в глазированный кувшин. Они разложили вкусную снедь, стали чаевничать. В дверь постучали. Появился сосед Геннадий, коричневый от озерного загара, в линялой гимнастерке, с руками, изрезанными леской, истертыми о топор и лопату.
– Андреич, с приездом, – приветствовал он с порога, деликатно кивая Маше, ставя на лавку кружку с малиной. – Что не был давно?.. Соскучились…
Его пригласили к столу, угощали московской едой. Он прихлебывал чай, рассказывал об огурцах и картошке, жаловался на редкие дожди, похвалялся речным уловом.
– Огурец, он, Андреич, сам знаешь, полезен. Свой, домашний. Ни на рынок, ни в магазин не иди. Срывай и ешь, – делился он бесхитростной истиной, добытой в огородных трудах. И тут же, следом за ней, щедро делился другой, открытой на озерном берегу: – На рыбалке, Андреич, сидишь, никакие дурные мысли в голову нейдут. Одна красота. Душа отдыхает. Разве плохо, Андреич? – И следом, без всякой печали сообщал: – А старый-то Никанорыч помер. На краю деревни который жил, коз держал. К вечеру коз отвязал, привел домой, лег на кровать и помер.
Попил с ними чай, распрощался, оставив полную, с горкой, кружку малины, которая светилась насквозь, чуть слышно благоухала. В окно на этот сладостный запах прилетела оса. Присела на ягоды, чутко вздрагивая черно-золотым узким телом.
А вечером они лежали в сумеречной прохладной избе, на старой деревянной кровати. На овальной спинке слабо светились два розовых, наивно намалеванных льва. Встали на задние лапы навстречу друг другу, обнялись, целовались. Сумрак избы мякло лился над лоскутным одеялом, омывал столешницу с синим огоньком в стеклянной рюмочке, божницу, где, едва заметный, туманился образ с пучком засохшей травы. Он гладил ее теплые волосы, целовал ее мягкую, млечную грудь, прикасался губами к ее животу, стараясь услышать едва уловимые биения младенца.
– Все изумляюсь тому, что от тебя услышал. К чему ни прикоснусь, на что ни погляжу – Боже мой, ведь он теперь существует в этом мире. На озеро сегодня смотрел – он тоже эти голубые воды видит. Ты яблоки брала из травы, и он тоже брал. Цветок ставила в глиняный кувшин, и он тоже ставил. Мы теперь должны с тобой делать только самые простые, добрые дела. Смотреть только на самые прекрасные предметы. Думать только о добром, благом. Мы, как два зеркала, в которые он, еще нерожденный, смотрится. Пусть зеркала будут ясными, чтобы в них был один свет.
– Ты знаешь, я почувствовала, как это случилось. Мы лежали, еще уставшие, без сил. Я веки не могла поднять от усталости. Ты встал, подошел к окну, смотрел на вечерние фонари. А я вдруг почувствовала, как что-то пришло, слилось со мной. И вдруг поняла, это случилось. Сомневалась, ждала. А потом убедилась – да, это так.
Ее пальцы слабо шевелились, гладили ему лоб, и он сквозь ее пальцы видел, как вокруг, почти неразличимые, таились старинные предметы. Он их не мог разглядеть, а только догадывался, – там стеклянная рюмочка, искорка синего блеска. Там образ Николы на Божнице, крупица скупой позолоты. Там розовая тень на кровати, два косматых обнявшихся льва.
Кровать, на которой они лежали, была ветхим крестьянским ложем, из скрипучих тесаных досок. Служила одром для нескольких поколений крестьян, некогда обитавших в избе. Их ночные любовные ласки. Их моления и тихие вздохи. Их болезни, сны и успения. Ему казалось, души обитателей и хозяев избы тихо стоят над ложем. Знают об их любви, о младенце. Желают понять, хорошо ли им на просторной деревянной кровати. И он отвечал: «Хорошо. Спокойно».
– Я чувствую, каким он будет, наш сын. Ты мудрый, добрый, отважный. Столько видел всего, пережил. Воин, мудрец, путешественник. Столько всего достиг, столько понял. И все это ему передашь. А в чем не успел, так он за тебя успеет. Это тебе награда. Помимо всех твоих орденов и заслуг, эта самая высшая. Я этого хотела, ждала.
– Как ты была права. Стоит голову повернуть, чуть сместить зрачки, и вот уже мир иной. Восхитительный, дивный. Все эти месяцы я метался, сходил с ума. Какой-то колдун, косматый, злой, заколдовал меня и отнял рассудок. Насылал на меня наваждения, бреды. А ты расколдовала меня. Теперь понимаю, зачем живу. Я – ваш защитник, кормилец. Берегу и лелею. Но и вы меня сберегаете, спасаете от безумия.
Она погружала пальцы в глубину его волос, расчесывала, словно гребнем, и казалось, с ее пальцев слетают легкие вспышки. Засвечивают и стирают недавние страшные образы. Оставляют мягкий сумрак избы, золотую искорку на божнице.
Там, среди капелек тусклого воска, нагара лампадного масла – обугленный образ Николы, закопченный, линялый, на растресканной старой доске. Там же бледная бумажная роза, пучок увядшей травы, огарок церковной свечки. Казалось, кто-то, едва различимый в сумраке, стоит перед образом, кланяется, тихо вздыхает. Молит о пропавших без следа на войне. Вымаливает прощение за грех. Просит блага всем живущим и страждущим. Просит Господа и о них, здесь лежащих.
Он смотрел на божницу, стараясь разглядеть икону. Но в углу была тьма. Только слабо мерцала золотинка.
– Я буду ухаживать за тобой. Сиди себе в валенках, пиши свои книги, а я буду печку топить, подметать, кушанья деревенские готовить, разносолами тебя угощать. Под вечер, когда устанешь, будем по деревне под ручку прогуливаться. Сугробы розовые, голубые, зеленые. Оконца слюдяные горят. Снежок под ногами похрустывает. Кто же это к нам подбегает? Какой-такой мальчик расчудесный?! Щечки румяные, глаза голубые. Да это же наш сынок ненаглядный!
Он ей внимал – так и будет. Ему казалось, за ночным окном начинает восходить, разгораться светило. В избе все светлей и светлей. Все сумеречные предметы обретают свои очертания. Золотятся старые смоляные суки. Синеет стеклянная рюмочка. Проступают на божнице черты белобородого старца. Изба полна света, прозрачная, как стекло. В подполе закраснела как уголь оброненная бусина. Крыло стрекозы сверкает как маленький слиток. Изба отрывается от деревянных основ, взмывает, идет в небеса. Раздвигает трубой белые звезды, оставляет огненный след. И два льва, словно два кормчих, поднялись на спинке кровати, целуются красными языками. И изба, как ночной ковчег, движется в мироздании.
Темнота. Угасающий свет в окне. Голубая точка в стеклянной рюмочке.
Они проснулись рано, до восхода. В сереньком тусклом оконце висел туман. К стеклу из тумана протягивалась ветка березы. Они взяли в сенях корзинки. Он – старинную, из прутьев, с прохудившимся дном, заложенным шершавыми щепками. Она – маленькую, лыковую, со следами земляничного сока. Он обул сапоги, напялил брезентовые штаны, жеваную куртку, все ношеное-переношеное, в мазках земли, трухи, паутины. Она натянула вязаные носки, грубые мужские башмаки, платок, сделавший ее похожей на деревенскую молодуху.
Ознакомительная версия. Доступно 26 страниц из 129