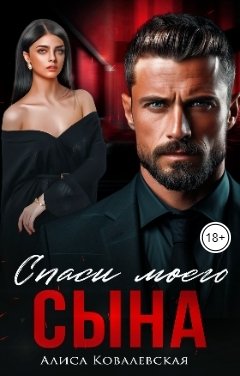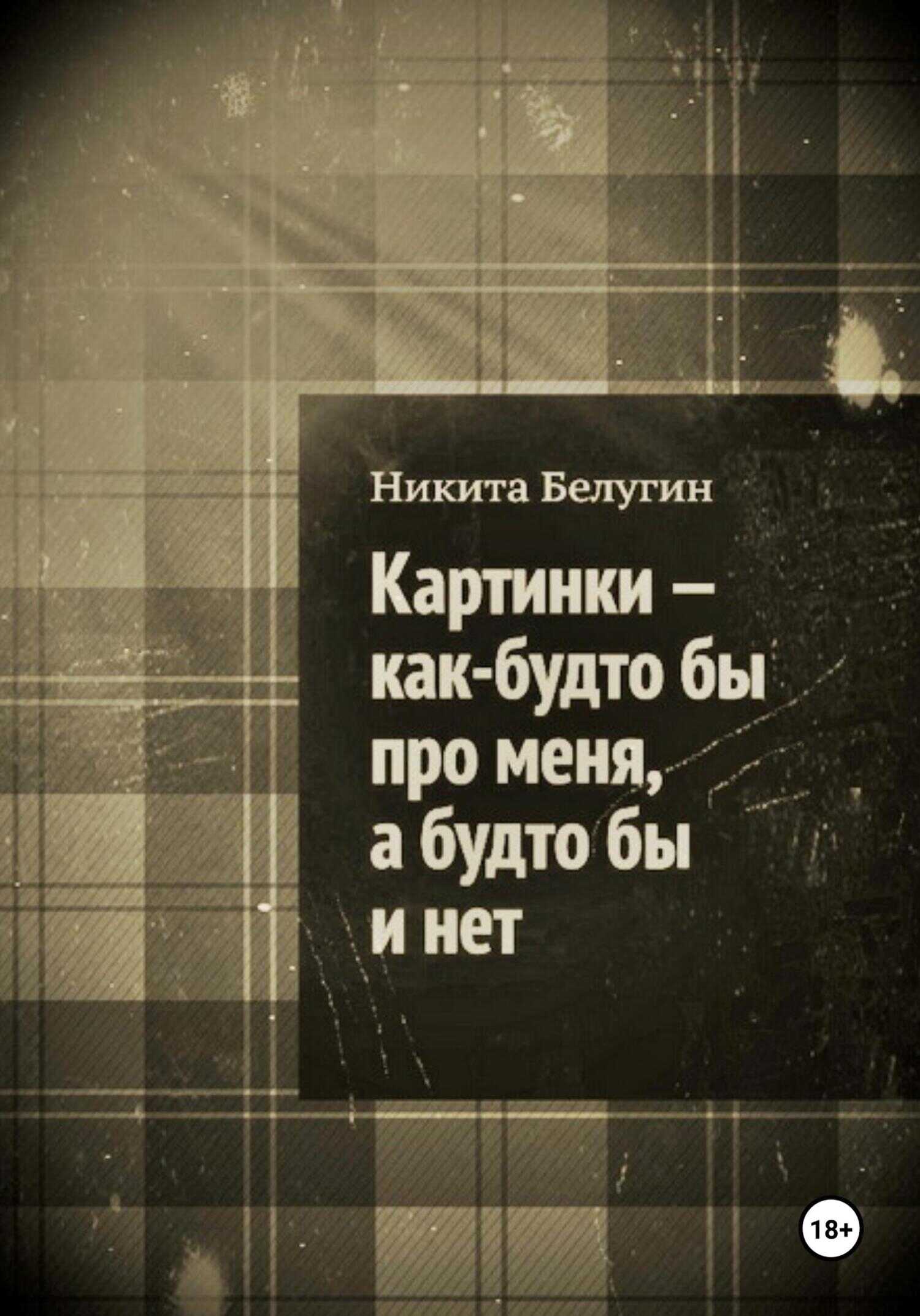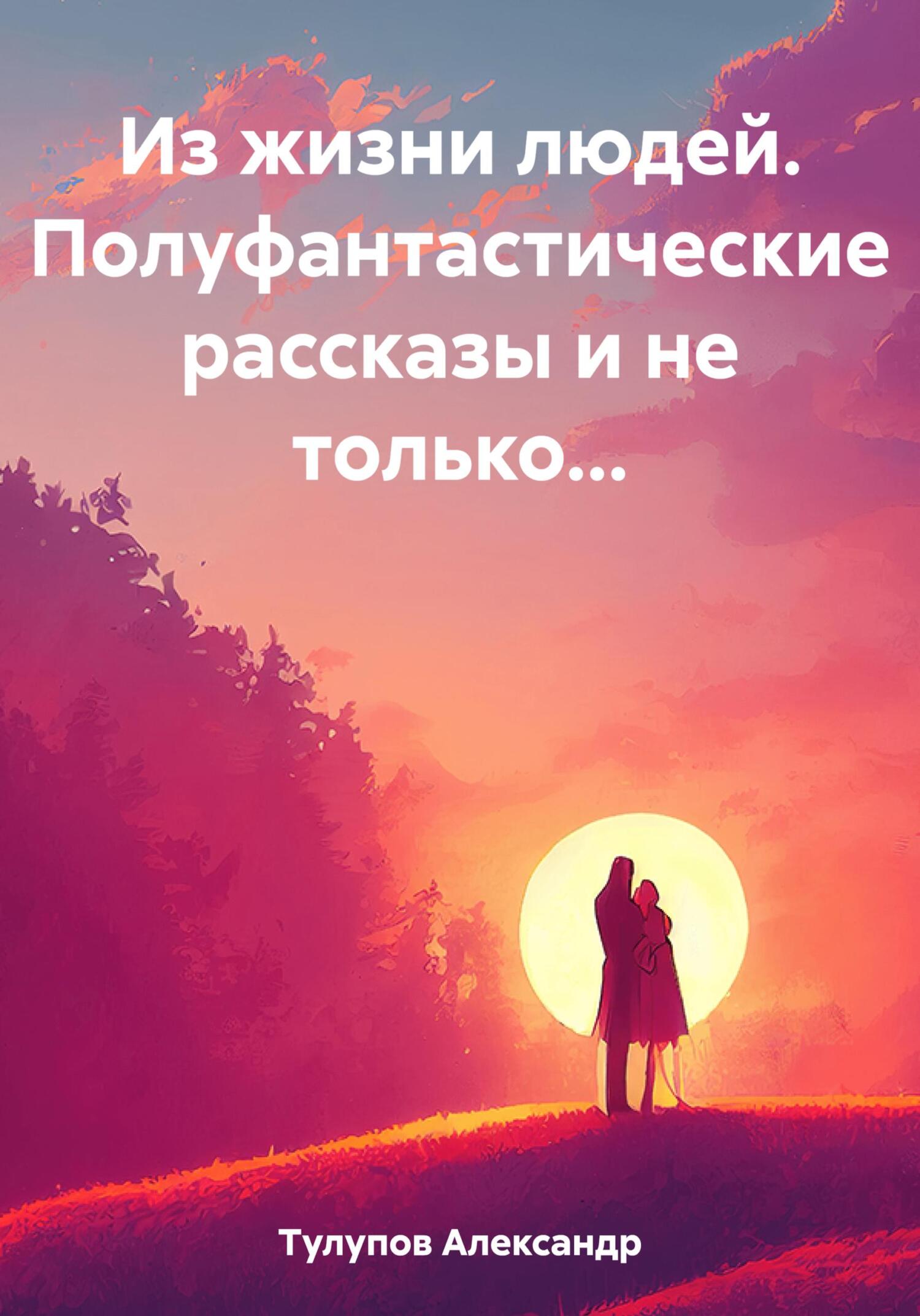этом не известно.
Вдруг маленький человечек с размаху бьет себя по морщинистому лбу. Лиза вздрагивает.
– Чуть не забыл! Вам тут передали.
Служащий достает из сумки сверток.
Лиза неуверенно берет его и раскрывает – там оказывается сорванный цветок.
Лиза застывает, пораженная. Она знает этот цветок! Он стоял у них дома на подоконнике, когда она была маленькой. Он цветет лишь однажды. И Лиза в детстве очень хотела это увидеть. Но так и не дождалась. Проекцию того цветка она подарила Сизифу, даже не надеясь, что он когда-нибудь зацветет. И он зацвел.
– Еще была записка, – служитель почесывает плешивый затылок. – Куда же я ее дел…
Какое-то время он роется в недрах сумки. И наконец извлекает оттуда скомканную бумажку.
Лиза выхватывает записку и быстро пробегает глазами. В голове сам собой начинает звучать знакомый голос:
«Наслаждайся жизнью каждый день до самой смерти. А потом наслаждайся ею снова».
Лиза улыбается, прижав руку ко рту.
На ее глаза наворачиваются слезы.
– Но как? – только и выговаривает она, захлебываясь несуществующим воздухом.
Служащий непонимающе смотрит на нее, пожимает плечами и снова берет под локоть. Он должен выполнить задание – довести ее до воплощения. В спящее в ночи тело.
Старик ведет Лизу по коридору прочь от белой камеры.
Лиза не сопротивляется.
Одной рукой она прижимает к груди нежные, хрупкие лепестки.
В другой – сжимает записку.
Она не знала, как должен выглядеть этот цветок.
Не знал и он.
Вряд ли настоящий был бы таким же красивым, как этот.
Он смотрит на старческие руки.
Руки, прижимающие к груди голову вернувшегося сына.
Обритого, одетого в потрепанную одежду, со стертой до кровавых мозолей оголившейся ступней.
Сизиф стоит в зале Эрмитажа и смотрит на полотно Рембрандта.
Так странно… Он видел эту картину в год ее написания.
И потом, спустя столетия, когда носил вражескую шинель.
Он смотрит на нее сейчас.
Менялись его тела, имена, обстоятельства, а она все висит, лишь едва заметно потемнев.
Он смотрит на закрытые глаза стоящего на коленях сына.
Смотрит не мигая.
Он знает, что сзади к нему подходят двое в черном, но не отрываясь глядит на картину.
– Вы арестованы, – говорит один.
Сизиф усмехается.
– Я знаю.
Глава 67
Прямо сейчас
Спутанные провода тянутся к голове.
Электроды плотно прикреплены к черепной коробке.
Волны сознания отображаются на экранах.
Отображаются образы и воспоминания.
– Благодаря Иуде мы смогли досконально изучить дело подсудимого.
Сизиф усмехается.
Он сидит на неудобном стуле в грубой серой робе.
Его голые длинные ступни торчат из-под потрепанных краев холщовой ткани.
Перед ним рядами расположились Начальники в черном и один – в белом.
Тощий в черном расхаживает туда-сюда.
– Подсудимый скрыл от нас важные подробности.
Тощий поворачивается к Сизифу, сверля его взглядом прищуренных глаз.
Сизиф встречает этот взгляд совершенно бесстрастно.
Ему теперь нечего терять.
– В своих прошлых воплощениях, – продолжает Тощий, – ты проживал гнусные жизни, не так ли?
Удар ниже пояса…
– Ты был идейным инквизитором…
Экраны предательски вздрагивают, отображая образы его подсознания.
Чертово подсознание, помнящее все.
Из жизни в жизнь.
Молчит, когда надо, и не затыкается, когда жаждешь тишины.
На экране появляется молящийся чиновник.
Нидерланды. XVI век.
Год, когда Рембрандт написал «Блудного сына».
Седеющий чиновник, страдающий простатитом, молится в кабинете с плотно закрытыми окнами.
Сквозь его лицо проступают черты Сизифа. Да, это он истово молится, когда за окном беснуется толпа и слышатся крики привязанной к столбу женщины.
Провода натягиваются – Сизиф опускает голову.
– Да, – говорит он. – Я разрешил убедить себя.
– И предателем во время Второй мировой, – продолжает Тощий своим хриплым и острым, как бритва, голосом.
Экраны снова мигают.
Картинка меняется.
Да чтоб тебя, ненавистное подсознание…
Кровь расползается по белому снегу.
Убитые мать и сын лежат совсем близко друг к другу.
В застывших глазах Анны отражается человек.
Высокий, широкоплечий.
Он стоит, вглядываясь в ее лицо. Люди позади начинают расходиться.
Расходятся и немцы, поделившиеся с ним теплой, тяжелой шинелью.
Из-за которой он закончит жизнь в советском исправительно-трудовом лагере, страдая бессонницей, пока не повесится. Петля – грубая, жесткая, не сразу лишила его жизни. Он помучился, инстинктивно пытаясь содрать ее с шеи.
Сизиф поднимает руку, чтобы оттянуть воротничок черного костюма. Но воротничка нет. Как и костюма. Только серая роба.
Сизиф усмехается: никому, кроме него, не казалось, что ворот костюма слишком узкий и мучительно натирает шею.
Он и не думал, что это болезненная проекция воспоминаний, которые он так старательно задвинул на задворки сознания.
Сизиф вдруг отчетливо ощущает щемящую, сжимающую сердце тоску. Как тогда, когда ворочался на жестких нарах лагерного барака и ночь за ночью смотрел на крюк под потолком. Эта красная лужа, эти застывшие глаза разъедали душу каждый раз, когда опускалась тьма. И не было спасения от воспоминаний.
И вот он смотрит в эти глаза.
Он помнит, как они блестели, лучась жизнью и озорством.
Помнит, как желал их взгляда на себе.
Слеза течет по лицу Василия.
Течет по смуглому, скуластому лицу Сизифа.
– Да, – тихо шепчет он. – Уговорить себя было не просто… Но я справился.
Горькая усмешка появляется на его осунувшемся лице.
Он помнит.
Он помнит все слишком хорошо.
И никогда по-настоящему не забывал.
Лиза… где она сейчас?
Смог ли он исправить хоть что-то?
Хотя бы сейчас, спустя столько жизней?
– Судя по твоим отчетам, когда ты попал сюда и увидел все взаимосвязи, причины – все, что произошло после твоей смерти, – у тебя рухнули все идеалы. Ты понял, что все твои жизни были иллюзией. Твои слова? – продолжает Тощий.
Сизиф твердо смотрит ему в глаза.
– Да. Мои.
Тощий криво улыбается.
Улыбается едва заметно, но Сизиф сидит достаточно близко, чтобы хорошо разглядеть эту усмешку.
Тощий доволен.
Чертов циркач.
– Ты сидел в комнате воспоминаний до кровавого пота. На беседе ты сказал, что не веришь больше ни во что и готов быть нашим сотрудником, лишь бы только пытка в комнате кончилась. Лишь бы только больше никогда не возвращаться на Землю, не встречаться с теми, с кем тебя сводила жизнь. Это твои слова?
– Сами отлично знаете, – сухо говорит Сизиф, не отводя глаз.
– А она? – прерывает Тощий. – Умирать в гневе и с проклятиями на губах – один из самых неудачных способов ухода из жизни. Он всегда утаскивает душу во тьму и влечет рождение в худшую из возможных жизней. Это всегда плохая карма, дающаяся человеку уже при рождении ты ведь знаешь?
– Да, – спокойно отвечает Сизиф.
– Она