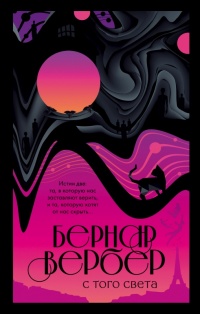В октябре он побывал на прослушивании у директора Оперы. «Ну что ж, месье! — сказал ему тот. — Возвращайтесь, когда научитесь петь должным образом». Этому поражению, которое мы не могли себе объяснить, Бост и приписывал дурное настроение Марко. Постепенно ему пришлось признать истину: Марко ожидал от него гораздо большего, чем дружба, и с этой надеждой связывал счастье всей своей жизни. Бост не желал ни отказываться от дружбы Марко, ни подчиняться его страсти: он тоже оказался в ловушке. Марко больше не таился; он выходил из себя, плакал, он подозревал, что Бост ищет от него защиты у Сартра. Однажды утром, когда я работала в «Доме», внезапно появился Марко. «Пойдемте», — повелительно сказал он мне сдавленным голосом. Я пошла вместе с ним на улицу Деламбр и с изумлением увидела на его глазах слезы. Накануне, возвращаясь к себе около шести часов вечера, он услышал в своем номере тихую музыку и шепот голосов; посмотрев в замочную скважину, он увидел Ольгу и Боста, они целовались, только и всего, но, принимая во внимание сдержанность Ольги, он сделал из этой сцены выводы, для него трагические.
Впоследствии я узнала, что вечером он встретил в «Доме» Сартра и Ольгу и с усмешкой произносил фразы, которых никто из них не понял, поскольку Сартр не знал того, что знал Марко, а Ольга не догадывалась, что он это знает. Остаток ночи Марко проплакал; он слишком хорошо понимал, что произошло: уже давно эти молодые двадцатилетние люди нравились друг другу; наперекор сложностям и требованиям взрослых, они бросились друг другу в объятия.
Лично я считала, что Ольга приняла здравое решение, разомкнув круг, из которого нам не удавалось выйти. Сартр всегда умел держать удар и честно признал свое поражение. Марко с жаром пытался убедить нас порвать отношения с Ольгой и Бостом; мы отказались, и он распространил свою обиду и на нас. Он разгуливал по Монпарнасу с револьвером в кармане, неожиданно появлялся в «Доме», чтобы застать нас врасплох; он думал, что мы все четверо собираемся в моей гостинице, замышляя против него заговор; он следил за одним из окон: на стекле вырисовывались тени, и он в ярости сжимал рукоятку своего револьвера; он был обескуражен, когда я ему сказала, что живу в другом номере. Иногда ему было трудно изображать гордеца. Он не скрывал своей боли, своих слез. Нам стало так жаль его, что мы решили взять его с собой в Шамони.
Сартр тоже был невесел. Кроме разочарования от краха трио, он испытывал и другой, еще больше касавшийся его, крах. Рукопись его книги — названной «Меланхолия» из-за гравюры Дюрера, которую он очень любил, — Низан передал внутреннему рецензенту издательства «Галлимар». Сартр получил письмо от Полана, в котором сообщалось, что, несмотря на определенные достоинства, произведение не было принято. Он спокойно воспринял неудачу с «Легендой об истине»; но над «Меланхолией» он работал четыре года, книга отвечала его замыслам; с его точки зрения, да и с моей тоже, она ему удалась. А Полан, стало быть, не одобрил намерение Сартра в литературной форме выразить метафизические истины и чувства; этот проект с давних пор и очень глубоко укоренился в Сартре, чтобы он согласился с таким приговором, и мы оба находились в замешательстве.
На мадам Лемэр и Панье все это произвело впечатление; они высказали мысль, что «Меланхолия» была, вероятно, скучна, да и стиль хромал. Такое отступничество совсем сбило нас с толку: возможно ли подобное расхождение между точкой зрения других людей и нашей собственной? Сартр собирался предложить свою рукопись другим издателям, но поскольку любое возражение находило у него отклик, вместо того, чтобы отбиваться высокомерием, он стал задаваться множеством неприятных вопросов.
Так что пребывание в Шамони оказалось не слишком веселым. Зима выдалась суровая, из-за гололеда закрыты были все трассы; один молодой лицеист, после недельного обучения, на спор вызвался совершить спуск с горы Бреван: вскоре было обнаружено его раздробленное тело. По канатной дороге мы поднялись на Планпра, и вместе с Сартром потом спустились по невысоким склонам. Марко, которого ужасала любая неровность и разность высот, брал частные уроки и, под предлогом отработки стиля, бесконечно упражнялся в спуске торможением. Однажды во второй половине дня мы с Сартром отправились на перевал Воза; в Ле Уш мы спустились по голубой лыжне, проходившей через лес, и справились с этим довольно плохо. В гостинице мы встретились с Марко, мрачневшим с приближением ночи. Он мечтал, что Бост разделит с ним радость зимнего спорта, и не мог смириться с его отсутствием. После ужина он выходил на снег, чтобы натереть голову своим вонючим серным лосьоном; однажды он потребовал, чтобы и Сартр его испробовал; что касается меня, то я лишь позволила ему смочить тремя каплями тампон, которым он едва коснулся моей головы: я думала, что мои волосы сойдут клочьями вместе с кожей.
Марко настоял, чтобы мы все спали в одной комнате, настолько непереносимо для него было одиночество ночей. Мы занимали что-то вроде унылого, голого чердака, где стояли три кровати. Едва успев лечь, Марко начинал плакать горючими слезами, его жалобные стоны долго не смолкали во тьме. Ему уже довелось любить, у него даже были страстные увлечения, — рассказывал он нам, — но никогда не встречал он человека, с которым навсегда хотел бы связать свою жизнь; в июле он думал, что такой шанс ему представился, а теперь он бесповоротно потерял его; ему никогда не утешиться от этого горя. Рыдая, он представлял жизнь, которую мог бы вести со своим избранником; он положил бы к его ногам свою неминуемую славу, свое состояние; в длинных сверкающих автомобилях они путешествовали бы вместе, останавливаясь в роскошных отелях. Мы предлагали ему поспать; он умолкал, вздыхал и снова вслух начинал говорить о являвшихся ему образах: Бост, его белый шарф, свет его улыбки, его молодость, очарование, бессознательная жестокость; вспоминал, как после душераздирающей сцены они шли в кино посмотреть Чарли или братьев Маркс, и Марко с истерзанным сердцем слушал, как рядом смеется Бост! Было в этих нескончаемых сетованиях что-то еще более мрачное и безысходное, чем в исступленном бреду Луизы Перрон: мне казалось, что он создает себе ад, из которого ему уже никогда не выбраться.
По возвращении Марко снова стал донимать своими обидами и слезами Боста, которого эти сцены тяготили; ему уже было не до веселья, Ольге тоже. Она продолжала встречаться с Сартром, который старался сохранить с ней хорошие отношения, но сердце к этому уже не лежало; она, как всегда, не верила в будущее и, чтобы отвлечься, водила меня на маленькие танцплощадки Монпарнаса — «Богема», «Л’Арк-ан-сьель», где я скучала; наши вечера часто бывали безрадостными. К счастью, настроение Сартра улучшалось, у него появилась надежда в отношении «Меланхолии». Дюллен был давнишним другом Гастона Галлимара и написал ему, попросив лично посмотреть отвергнутую рукопись. Пьер Бост, со своей стороны, ходил к Галлимару, чтобы порекомендовать ее ему. Сартр работал над одной новеллой, получая от этого огромное удовольствие. Во время поездки в Норвегию он впервые попробовал себя в этом жанре с «Полуночным солнцем», текст которого он потерял в провинции Косс и к которому никогда не возвращался. В этом году он написал «Герострата» и теперь работал над «Новизной ощущений»[72]. Раза два-три я ездила с ним в Лан: он жил в старой уютной гостинице, где пахло плесенью. В Париже мы побывали на выставке Гогена. Мы смотрели фильмы. Читали. Книга Герена «Фашизм и крупный капитал» немного помогла нам понять свою эпоху. Мы с большим интересом восприняли «Фригидность женщин» Штекеля, потому что он предлагал психоанализ, отвергавший понятие бессознательного. Бернанос был от нас очень далек, однако «Дневник сельского священника» заставил нас относиться к нему с уважением; я несколько раз перечитала эту работу, удивляясь мастерству, скрывавшемуся за его простотой. Два ранее неизвестных нам автора вызвали нашу симпатию: Кено с «Последними днями» и Мишель Лейрис с «Порой зрелости».