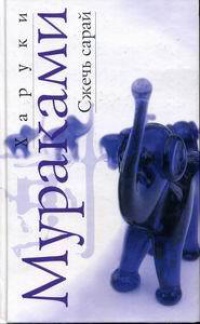Книга Джентльмены - Клас Эстергрен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лео обустроил для собственного пользования — то есть практически избавил от мебели, — часть огромной дедовой квартиры на Хурнсгатан; с братом он делил лишь прихожую и кухню. Получилась уютная квартирка из двух комнат с окнами на улицу, но Генри все же казалось, что его покой нарушен: он работал над произведением «Европа. Фрагменты воспоминаний» и требовал абсолютного уединения, ведь этот труд являл собой плод пятилетнего изгнания, величайшее произведение Генри Моргана.
Впрочем, именно в те дни, когда Лео лежал и насвистывал мелодии, Генри был особенно дружелюбен и заботлив. Возможно, эта забота была не вполне бескорыстной. Будучи человеком деятельным, Генри не выносил людей, которые просто существуют. Может быть, его пугала отрешенность Лео — как пугает проницательный детский взгляд. Целыми днями Генри расхаживал и говорил сам с собой, каждое утро он вывешивал расписание на день — листок с обозначением всех дел, которые было необходимо выполнить именно в этот день. Этот распорядок можно было писать под копирку, ибо листки не отличались друг от друга ни единым знаком, будь то первое января или любой другой из трехсот шестидесяти пяти дней. Быт Генри был наполнен совершенно однообразной — и, на взгляд Лео, совершенно бесполезной, — работой.
Генри вернулся в Швецию вполне узнаваемым, но более взрослым человеком с неофициально закрытым делом о дезертирстве из шведского флота. Он вернулся в Стокгольм, где у него однажды не сложилась жизнь; ему хотелось верить, что эта жизнь стояла на месте и ждала его возвращения, но надежда эта была напрасна. Город, который Генри считал родным, изменился до неузнаваемости. Целые кварталы, целые районы сносили, ровняя с землей, район Клара лежал в руинах, Сити пересекали автобаны, а годом раньше был списан последний трамвай. Все друзья Генри остепенились, некоторые получили образование и обзавелись семьей, хорошей зарплатой, размеренной жизнью и блестящими перспективами. Джаз почти вымер, говорили разве что о дикси — и то с ностальгически-иронической улыбкой. Даже «Беар Куортет» превратился в выцветшее воспоминание: кто-то умер, кто-то делал студийные записи поп-группам, а сам Билл обитал на континенте, готовый в любую минуту стать звездой международного масштаба.
Стокгольм был предан и разграблен, Стокгольм пытался стать чем-то совершенно непонятным для «Анри, le citoyen du monde». Он видел настоящие мегаполисы в Германии, Англии, Франции. Стокгольм не мог стать таким, как они, сама попытка казалась просто нелепой. Генри не мог влиться в эту новую жизнь, он стал анахронизмом. Встречаясь с новыми друзьями, он видел в них не тех, кем они были теперь, а тех, кого он знал когда-то. Те злились и раздражались. Только Виллис в спортивном клубе «Европа» остался собой.
Иными словами, Генри не мог принять изменения и обновления, он все больше и больше изолировался от окружающего мира в старой квартире на Хурнсгатан, хранившей запах дедовского табака в тяжелых шторах. Генри пытался рассказывать Лео истории о большом мире, но брату это быстро надоедало. Лео считал, что Генри живет в мире иллюзий, в псевдореальности. Тому нечего было возразить.
Они действовали друг другу на нервы, братья Морган. Лео делал свое дело, Генри выполнял свои обязанности. Он пытался завершить работу над произведением «Европа. Фрагменты воспоминаний» — эта музыка ничуть не трогала брата, — и продолжал раскопки в подвале. Лео считал брата наивным до слез. Генри был вынужден, обязан нести эту службу, чтобы оправдать получение наследства, а Лео мог лишь с горечью констатировать, что пустил свою долю на ветер всего лишь за несколько месяцев. Он не мог понять одного: почему Генри упрямо делает вид, что сокровища и в самом деле существуют. Лео пытался открыть Генри глаза на истину, заставить понять, что все это театр, розыгрыш, что его надули, как и Филателиста, Ларсона-Волчару, Павана и парней из магазина Воровской Королевы. Но Генри выходил из себя, он не выносил таких омерзительных нападок и отказывался говорить на эту тему. Есть правила, есть вещи, которые нужно принимать такими, какие они есть. И точка. Случались ссоры. Генри ворчал на Лео, как придирчивая домохозяйка, тыча пальцем в любую погрешность — уборка, наведение порядка, и не собрать ли Лео свои вещи да не убраться ли подобру-поздорову… Они ссорились, кричали друг на друга, и вдруг однажды Генри разрыдался. Он чувствовал себя таким одиноким. Он не хотел жить совсем один. Ведь он был творческой личностью.
Но видя брата-вундеркинда лежащим без дела, будто парализованного собственным талантом, Генри становился добрым и заботливым. Он приносил брату чай в постель и спрашивал, когда подать обед и ужин, заботясь о нем, словно о любимой хворой супруге. Присаживаясь на краешек кровати, он рассказывал Лео сказки, утомляя брахмана историями из жизни Большого Мира. Генри подумывал вновь отправиться в путешествие — творческой личности тяжко дышалось в Швеции. Но Лео понимал, что Генри останется дома. Генри больше никогда не уедет из Швеции.
Периоды абсолютной пассивности сменялись полной противоположностью: лихорадочной работой, чтением, пьянством и спариванием. В такие дни, когда энергия Лео находила выход, Генри становился совсем иным — строгим морализатором, разочарованно наблюдавшим за Лео, которому все замечания были глубоко безразличны, равно как и трюки с изыманием вещей и угрозами выселения.
Летом семьдесят четвертого года Лео Морган, очевидно, переживал светлый период продуктивного и активного общения. Он закончил написание очередного сочинения, выпущенного отдельным изданием в небольшом, специализирующемся на философии издательстве, — под умеренно интригующим названием «Любопытство, жажда знаний и разум». Позже у нас будет повод вернуться к этой незначительной работе, ставшей последней публикацией Лео Моргана. Пару раз Лео встречался с Эвой Эльд, своей преданной школьной поклонницей, вероятно не без интимных контактов. Лео Морган выгуливал своих бесов при каждом удобном случае, а случай представлялся нередко, ибо во многих женщинах при общении с Лео просыпался материнский инстинкт защитницы и действовал до тех пор, пока они не осознавали, что Лео вовсе не нуждается в материнской защите. Скорее наоборот, защищаться приходилось от Лео.
На фестивале у Йердет Лео, вероятно, чувствовал себя несколько одиноко. Старая компания распалась, умерла, рассеялась. Время жестоко прошлось по рядам товарищей, скосив немало народа. Однако Стене Форману все было нипочем. Стене парил над толпой, обкуренный до звезд, усталый, изможденный неудачными сделками, большими расходами и вечными склоками в еженедельнике «Молния», которому приходилось осваивать все более скабрезные темы, чтобы не уменьшать тираж.
Стене Форман шел навстречу Лео среди стоек, гитар, африканских барабанов и трубок мира, чтобы броситься ему на шею. Знаменитый смех исчез, остался лишь тяжкий хрип, но Стене был рад видеть Лео живым и невредимым. Лео тоже не мог скрыть восторга, однако друзья старались не говорить о прошлом. Они стали старше, взрослее, умнее.
Еженедельник «Молния», закрытый осенью семьдесят пятого, был типичным мужским журналом, затерянным в тени настоящих мастодонтов печати и, что достойно особого уважения, избегавшим малейших намеков на секс и порнографию. Поэтому дела еженедельника и шли так плохо. Журнал был делом всей жизни отца Стене Формана, и, проживи издание еще год, оно отметило бы тридцатилетний юбилей. Но отец, вопреки судьбе основавший три издания, был одиночкой, до самого конца не желавшим подчиняться требованиям нового времени. Уже в начале семидесятых старость стала давать знать о себе, и к семьдесят третьему дела полностью перешли в руки сына. Стене вырос в редакции, с пеленок строчил заметки и всячески проявлял склонность к профессии. Он пошел по стопам отца, и время тому благоприятствовало. Семьдесят третий год был невероятно хорош для еженедельной прессы. Новостям не требовалась акушерская помощь, они шли в редакцию конвейером. Стене отлично осветил смерть старого короля, драму на Норрмальмсторгет и сделал серию статей по следам скандала вокруг Информационного бюро. Сам он написал внушительный репортаж с места событий, который получил хорошие отклики, даже за пределами узкого круга еженедельной прессы. Фрагмент репортажа предполагалось перевести для американского «Эсквайра», а этой чести удостаивали немногих шведских репортеров. В те времена царила мода на журналистские расследования, «new journalism» и прочее — как только не называли это раздувание скандалов, известное еще в девятнадцатом веке. Тираж «Молнии» сильно увеличился за год, в ноябре семьдесят третьего достигнув рекордных ста сорока семи тысяч экземпляров. Успех, разумеется, широко отмечался в известных ресторанах, а Стене Форман — как и все папенькины сынки — не скупился на фейерверки. До вхождения в систему он был «прови» и хиппи, и кем он только не был, а в итоге обзавелся кучей детей от различных женщин, а также чуть более сдержанным смехом. Раскатистый, безудержный, почти безумный смех, которым он славился в шестидесятые, превратился в глухой хрип, свидетельствующий об определенных жизненных проблемах. Пагубные наклонности Стене не были секретом для общественности, чем и пользовались некоторые представители свободного рынка: за определенное вознаграждение им разрешалось публиковать «новости» о том, что продукция и услуги конкурентов — например, укрепители мышц, чартерные рейсы и новые модели автомобилей — абсолютно негодны и вообще опасны для жизни. Трюк был стар как мир — компрометировать конкурента с помощью клеветы. Иными словами, Стене Форман был коррумпирован, однако — спешил он всякий раз заметить — не более коррумпирован, чем редакторы прочих изданий. С волками жить — по-волчьи выть. Либо ешь ты, либо едят тебя. Однако в кругу ревизоров, корпоративных докторов и медиа-экспертов, призванных дополнить и укрепить успех еженедельника, главного редактора считали сумасбродом и горячей головой. Успех — как и предсказывали высоконаучные прогнозы и расчеты аналитиков — оказался временным. Шведское болотце не могло обеспечивать прессу почившими королями, ограбленными банками и шпионскими страстями чаще, чем раз в десять лет. Не успело праздничное шампанское выдохнуться, как тиражи снова опустились до кризисной отметки. Угроза закрытия маячила черной тенью в редакции на Норр Мэларстранд, долги перед типографией росли, неизбежно приближая банкротство. Но Стене Форман не падал духом. Два других издания — тоже детища его отца — об электронике и антиквариате можно было спасти с помощью дополнительной поддержки. А «Молния» была беззащитным зверьком в джунглях, населенных драконами и гигантскими ящерами. Форман отказывался капитулировать — то есть сделать ставку на порнографию, — ибо не мог предать идеалы своего отца. По крайней мере, пока тот был жив. Это вопрос чести и совести, утверждал Стене. Подобная позиция сделала его нравственным образцом в радикальных кругах, поддерживавших частное предпринимательство без монополистских амбиций. Большое интервью со Стене было опубликовано в газете «Культурфронт», где он громогласно сокрушался по поводу морального распада прессы. У самого же Стене были чистые, лилейно-белые руки, которые он охотно демонстрировал на сопутствующей фотографии — по всей видимости, без намека на самоиронию. Сердце у него располагалось слева, так было всегда. Но в газетном деле царит закон джунглей, «trial and error», здесь пробиваются наверх все новыми средствами, здесь нужны свежие идеи. Во время долгих, хаотичных мозговых штурмов с участием специально созванных для этого представителей различных отделов Стене Форман пытался усилить динамику и определить новую стратегию, способную спасти издание от медленной и мучительной смерти. Но народ выдохся. Людям не хватало пороха. Стене Форману нельзя было отказать в харизме, но этого было явно недостаточно. Однако во время одного из таких мозговых штурмов Стене — без посторонней помощи — пришла в голову идея, которая, возможно, угодила бы в мусорную корзину, как и все остальные, если бы речь не шла о старых боевых товарищах — Лео Моргане и Вернере Хансоне.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Джентльмены - Клас Эстергрен», после закрытия браузера.