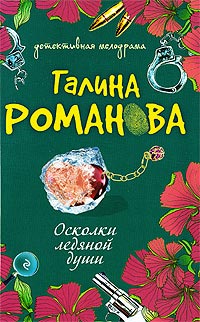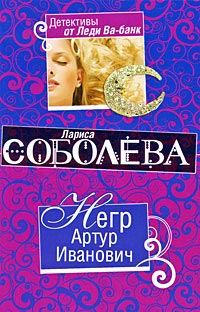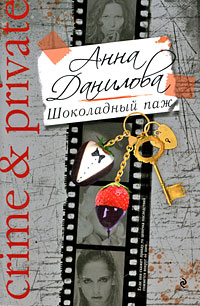Все больше городов и деревень становились жертвами чумы. Болезнь появлялась неожиданно. Еще на рассвете люди спешили по своим делам, не чувствуя никаких признаков недомогания, а на закате лежали бездыханные, и зараза, словно пожар, поглощала улицу за улицей, дом за домом. Болезнь не щадила никого: ни юных и цветущих, ни дряхлых и немощных. Мы боялись входить в деревни, еще не тронутые чумой. Кто мог поручиться, что болезнь не появится после того, как мы там окажемся? Да и стоило ли рисковать жизнью ради пропитания, которое все равно никто не хотел продавать? Деревенские бедняки и сами голодали, а зажиточные крестьяне приберегали запасы для себя. И кто мог их упрекнуть?
Мы неотступно двигались на восток. Мы поворачивали и поворачивали, словно угри, заплывающие в ловушку, и каждое утро солнце вставало прямо перед нами. Всякий раз, как по моему настоянию мы пытались свернуть к северу, путь преграждали поваленные деревья, разрушенные мосты или дороги, перегороженные крестьянами, до смерти напуганными чумой. На первый взгляд каждое из этих препятствий казалось естественным, однако постепенно во мне крепла уверенность, что некая сила, нам неподвластная, упрямо гонит нас на восток. Почему Наригорм так уверенно сказала, что мы будем двигаться в этом направлении? Она лишь передавала то, что поведали ей руны, или была не только проводником чужой воли?
Остальные едва ли замечали, куда мы идем: днем снедаемые боязнью заразиться, ночью терзаемые страхом, который постепенно вытеснил даже ужас перед чумой. Ибо волк по-прежнему нас преследовал.
Первые две ночи в дороге мы не слышали воя и уже начали верить, что пристав исполнил свой долг и зверя удалось изничтожить. Однако на третью ночь волк снова подал голос — и уже никто из нас не стал утверждать, что воет другой зверь. Вой не приближался, но и не отдалялся, повторяясь не каждую ночь, и это было еще невыносимее до рассвета вслушиваться в ночную тишь. Иногда мы не слышали его несколько ночей кряду и, облегченно вздыхая, говорили друг другу, что волк наконец-то отстал, но всходила луна, и леденящий душу вой снова вспарывал ночную темень.
Нам так и не удалось заметить ни мелькнувшей на фоне холма тени в лунную ночь, ни горящих в лесной чаще желтых глаз, ни следов или остатков трапезы. И всякий раз, заслышав вой, мы вспоминали зияющую рану на горле Жофре и выражение животного страха в его глазах — вспоминали и содрогались от ужаса.
Добраться до хижины знахарки оказалось непросто. По дороге между низкими холмами могла протиснуться только крестьянская телега. Повозка медленно тащилась по ухабистым колеям — ехать быстрее мы не решались, боясь, что Ксанф захромает или погнутся оси колес.
Хижина стояла на дальнем конце крутого оврага рядом с водопадом, который низвергался в глубокий водоем, окруженный зарослями папоротника. Каменистая речка огибала холм и текла вдоль дороги. Между громадными валунами вилась к хижине узкая тропка. Из дыры в крыше в морозный воздух поднималась струйка дыма. Добрый знак — по крайней мере, хижина не пустовала, а ее обитатели были в силах разжечь очаг.
Осмонд помог жене выбраться из фургона. В лице Аделы не было ни кровинки. Младенец тихо лежал в плетеной корзине, глядя на мать. Внезапно он наморщил личико, словно собирался заплакать, но не издал ни звука. Адела поежилась. С тех пор как мы принесли в часовню тело Жофре, ее бил озноб, который не могли унять ни тепло костра, ни одеяла — холод терзал кости Аделы, словно волчьи зубы. С рождения сына миновало больше месяца, но Адела была все так же слаба, а тревога за младенца лишала ее последних сил. Поначалу ребенок ел хорошо, но в последнее время ослаб — глаза потемнели и запали, тельце таяло на глазах.
Растущее беспокойство Аделы обратилось в страх, когда однажды вечером Наригорм воскликнула: «Смотрите, это знамение смерти!» Над повозкой, где спал младенец, кружил белый голубь. Адела выхватила ребенка из повозки, Осмонд прогнал птицу, но зло успело пустить корни. Адела поверила, что ребенок не выживет, да и мне начало казаться, что если Адела и дальше будет так себя изводить, то вскоре нам придется копать двойную могилу.
Опытный лекарь — вот кто мог помочь. В города мы входить не осмеливались, а мои познания в травах были не слишком глубоки. Если бы с нами была Плезанс! Плезанс, с одинаковым достоинством и скромностью врачевавшая загноившийся волдырь и желудочные колики. Сейчас мы особенно остро переживали ее уход. Она была словно древний дуб, к которому так привыкаешь, что сознаешь его отсутствие только по образовавшемуся в небе просвету.
Мы расспрашивали всех встречных путников, но большинство чума занесла далеко от родных мест. Они лишь качали головами и спешили прочь. Наконец девочка, гнавшая хворостиной гусей, поведала нам о знахарке.
— Тут все к ней ходят, — сказала пастушка и, прежде чем снова зашикать на свое шипящее стадо, добавила: — Только вы с ней поосторожней. За словом в карман не полезет, и если окажется не в духе, то обругает и прогонит!
В ушах у меня по дороге к хижине звучали слова пастушки. Прежде чем посылать к знахарке Аделу, следовало все проверить.
Маленькая круглая хижина из камней и пучков соломы лепилась к краю обрыва. Дверью служила кожаная занавеска. В садике на склоне, огороженном терновой изгородью, бродили куры. Рядом с дверью хижины росла старая рябина. Вместо алых ягод с веток свисали странные плоды цвета пергамента — некоторые размером с большой палец, другие не меньше кулака. Мне было недосуг разглядеть их внимательнее.
Войти или позвать хозяйку? Она сама разрешила мои сомнения.
— Не бойся, я не кусаюсь.
Из-за занавески выступила женщина. Высокая и стройная, длинные седые волосы заплетены в девчоночьи косы.
— Услышала вашу повозку. Не многие ездят этой дорогой, особенно сейчас, когда на наши головы обрушилась эта напасть.
— Поверь мне, среди нас нет больных!
— Знаю. Я бы учуяла запах. Входи.
Две курицы, потревоженные вторжением, выскочили наружу, возмущенно квохча. Старуха обернулась на звук — ее зеленые глаза затягивала молочно-белая пленка.
— Тебе нужна моя помощь, — промолвила она.
Знахарка не спрашивала, она знала.
Мне пришлось одернуть себя — по привычке захотелось махнуть рукой в сторону повозки. Даже мне с моим единственным глазом приходилось полагаться на зрение куда чаще, чем на помощь остальных чувств. Издали доносились приглушенные голоса — оставшиеся внизу разбивали лагерь у подножия холма.
— С вами путешествует молодая женщина. Несколько недель назад она разрешилась от бремени, но сейчас молоко почти пересохло, а младенец ослаб. Есть много причин, почему молоко у женщин кончается до срока, но, прежде чем я подберу для нее нужные травы, я должна ощупать ее груди — пусты они или полны, холодны или горячи. Приведи ее сюда. Сама я вниз не спускаюсь. А тебе я дам кое-что для младенца. Ступай за мной.
Знахарка исчезла за занавеской. Мой взгляд случайно упал на дерево рядом с дверью хижины. Теперь мне удалось разглядеть, что за плоды росли на ветках. Легкий ветерок шевелил высушенные зародыши — козьи, коровьи и человечьи. Большинство так высохло, что уже невозможно было определить, кому они принадлежат. Некоторые представляли собой почти сформировавшихся младенцев размером не больше ладони. Зародыши раскачивались на ветру и мягко стукались друг о друга.