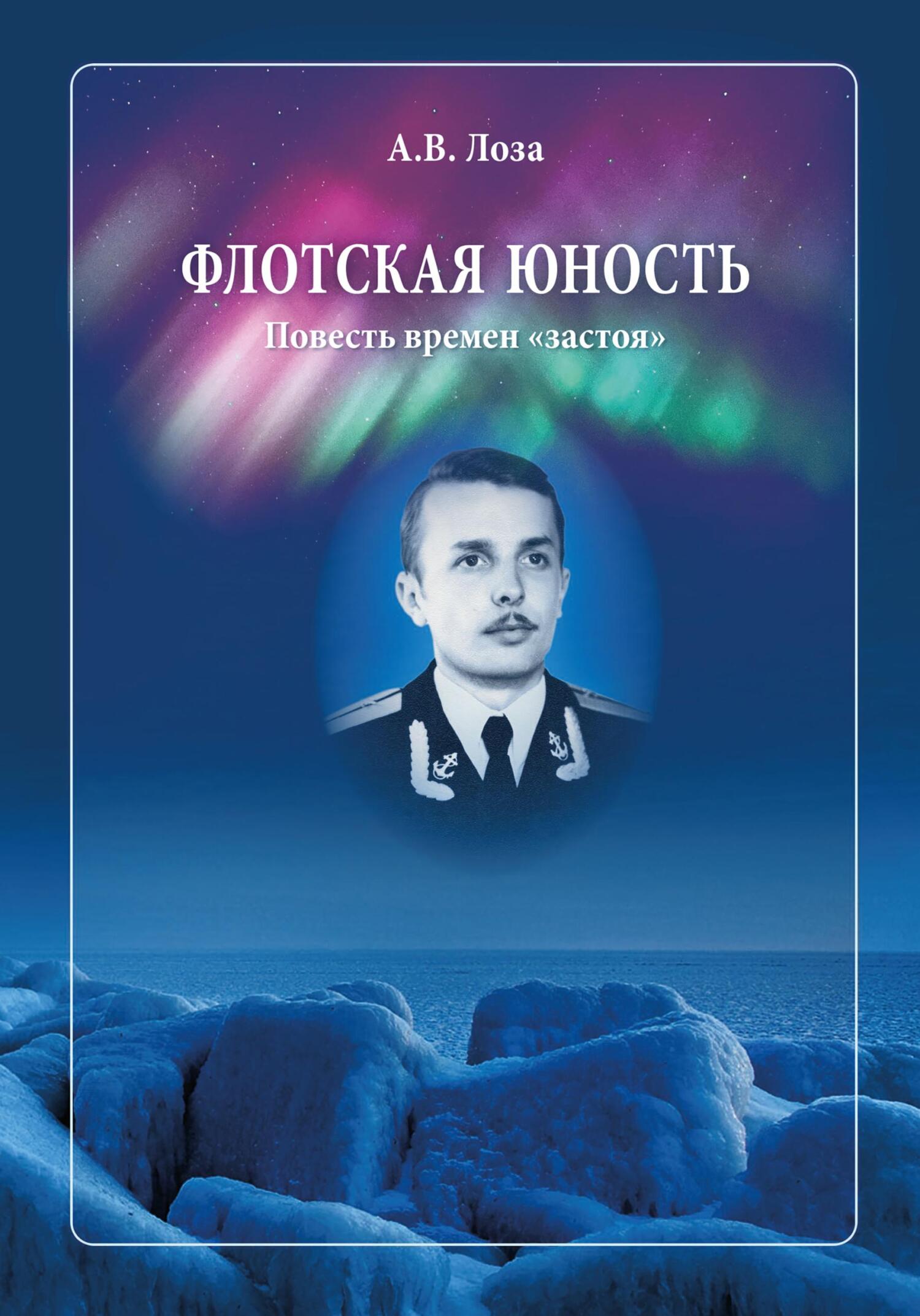с матросами и хорошо знали их. Эти матросы — городские и деревенские парни из самых разных губерний огромной страны, они и есть частичка российского народа, а, значит, мы, корабельные офицеры куда ближе к народу, — считал для себя мичман Садовинский, — чем все остальные: политики, юристы, врачи, актеры и прочие, не говоря уже о политиках-эмигрантах, прижившихся в Европе и многие годы отсутствовавших в стране.
Ведь это передо мной, — говорил себе Бруно, — ежегодно непрерывным потоком проходили матросы новобранцы — истинные представители народа. Я имел с ними дело всю свою офицерскую службу в течение нескольких лет, и я их ценил, да, я ценил и уважал толковых, сметливых, способных матросов своего корабля, а значит, я ценил и уважал в лице этих матросов свой народ. Разве это не так?
Через много лет, подтверждая подобные мысли, возникавшие, наверное, не у одного мичмана Садовинского, капитан 2 ранга Г.К.Граф писал: «Напрасно говорят, что офицеры не знали свой народ, что с ним их разделяло различие происхождения и социального положения.
В течение пяти лет все эти люди находились под непосредственным воспитательным влиянием офицеров, которые самым основательным образом знакомились с ними, узнавали их не только, в смысле пригодности к военной службе, но и просто как русский народ.
Матросы охотно несли офицеру все свои заботы, горе и радости, охотно делились полученными известиями из деревни, спрашивали совета, просили писать письма, прошения и рассказывали о своих семейных делах. Часто в часы досуга они говорили о жизни в деревне, о своем материальном положении и заработках.
Благодаря этому у офицеров составлялось определенное понятие о народе, о его положении в различных частях России, его интересах, характере и способностях».
Но я не понимаю, — злился на себя Бруно, — где, когда, на каком этапе оборвалась моя связь с матросами, уменьшилось мое влияние на подчиненных, и когда началось на них влияние агитации социалистов-революционеров?
Позже, Г.К.Граф обобщая с позиции прошедшего, причины успехов революционной социалистической агитации на флоте, делал следующие свои выводы:
«В машинные команды, то есть в машинисты и кочегары, чаще всего назначались молодые матросы из бывших заводских. Между ними сплошь и рядом попадались члены социалистических партий, которые на службе продолжали тайно поддерживать старые связи. Они-то и вели пропаганду среди команды. Времени для нее было много, подходящего места — сколько угодно. Матросы… все внимательнее и внимательнее вслушивались в сладкие речи о земле, воле, равноправии и других социалистических “благах”. Помешать такой агитации было почти невозможно, так как пришлось бы все время следить за командой, что сильно затруднялось условиями морской жизни, а сыск был противен всем традициям флота.
…За время войны большинство линейных кораблей так и не видело неприятеля и стояло на якоре в Гельсингфорсе… Команда отъедалась, отсыпалась и томилась однообразием. Не мудрено, что к началу революции на больших кораблях оказались целые ячейки революционно настроенных моряков».
Эти выводы Г.К.Графа подтверждает труд Ф.В.Винберга «Красный путь», где приведена речь революционера-эсера Лебедева:
«…в Балтийском море 1-я бригада линейных кораблей «Петропавловск», «Гангут», «Полтава» и «Севастополь» и часть 2-й бригады «Андрей Первозванный», «Император Павел I» не принимавшие участия в боях, стояли в Гельсингфорсе и были под непосредственным нашим влиянием. Именно тут мы делали последние приготовления тех борцов за свободу, которые по справедливости могут быть названы красой и гордостью революции».
Угнетала Садовинского и мысль о том, что, не являлась ли роковой для всех событий произошедших на флоте в феврале 1917 года, та нерешительность, с которой командование флота использовало в войне крупные линейные корабли. Мичман помнил, сколько об этом говорилось в среде флотских офицеров после смещения командующего флотом вице-адмирала В.А.Канина. Собственно, нерешительность командующего флотом в боевом применении крупных линейных кораблей против кайзеровского флота и послужила, в конечном итоге, причиной его отставки.
Именно отказ от перевода линейных кораблей на театр боевых действий, привел к тому, что линкоры, оставаясь в тыловом Гельсингфорсе, подверглись интенсивной агитации по разложению команд различными революционными, (только ли революционными?) подпольными организациями.
Бруно понимал, что нужна была длительная предварительная работа среди нижних чинов, что бы все корабли на рейде Гельсингфорса, все как один, последовали сигналу о начале мятежа данному вечером 3 марта, недоброй памяти 1917 года, с линкора «Император Павел I».
Значит, на кораблях — рассуждал он, — должны были находиться законспирированные ячейки матросов-руководителей, матросовбоевиков, которые по единому сигналу взяли на себя управление, подняли красные флаги на кораблях и организовали подачу боепитания в орудийные башни линкоров.
Но как это могло произойти на глазах офицеров и унтер-офицеров этих кораблей? — не понимал Бруно. — Эта организованность революционных матросов уже не могла быть объяснена только просчетами офицерской пропаганды среди экипажей, она требовала единого центра, значительного финансирования и серьезной конспирации, свойственным, пожалуй, только спецслужбам. Опять таки — чьим?
Исторический факт состоит в том, что руководители и организаторы бунта на линейных кораблях Балтийского флота в Гельсингфорсе в феврале — марте 1917 года пофамильно не названы до сих пор. Организаторы отсутствуют. Но ведь так не может быть! Это боевые корабли, где весь личный состав наперечет. Известны же историкам все руководители бунта произошедшего в 1905 году на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», известны имена и фамилии организаторов несостоявшегося бунта на флоте в 1912 году. Но, ни в период существования СССР, ни сейчас, историки не знают фамилий организаторов «революционных» выступлений на кораблях в Гельсингфорсе в марте 1917 года.
По меньшей мере, странно, что на такие благодатные для социалистической идеологии и пропаганды вопросы, как персоналии организаторов февральской революции на Балтийском флоте советские историки не смогли ответить. А может быть, им не дали такой возможности?
Гнетущие мысли и рассуждения о прошлом и полное бессилие что либо изменить, сейчас, нынешней зимой, душили мичмана Садовинского, не давали ему вздохнуть полной грудью и вгоняли в еще большую тоску. Одна надежда была на весну, на грядущие перемены…
С кем из офицеров, своих сослуживцев, ни говорил Бруно Садовинский в эту зиму, все сходились на одном — надо перетерпеть, надо дождаться весны. С весной, думали многие, наступит и определенность. Говорили с тайной надеждой: «Может быть, нынешний большевистский режим и не протянет дольше».
Тяжелую ситуацию в Гельсингфорсе подтверждают и донесения января — марта 1918 года А.Ф.Филиппова — одного из первых сотрудников Службы внешней разведки ВЧК, работавшего в Финляндии. В начале 1918 года А.Ф.Филиппов подробно изучал обстановку на флоте и в армейских гарнизонах русской армии в Финляндии и в одном из донесений докладывал:
Положение здесь отчаянное. Команды ждут весны, что бы уйти домой.