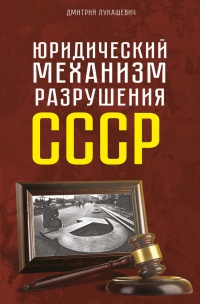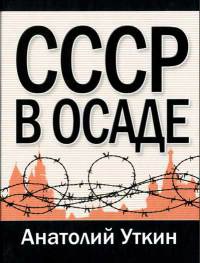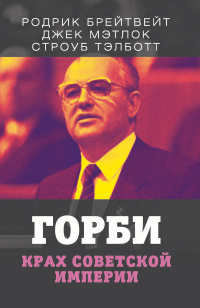Ознакомительная версия. Доступно 27 страниц из 132
Постройка печи для кремации казалась интересным творческим проектом, участие в котором позволяло выдвинуть и реализовать новые способы сохранения памяти усопших. Казимир Малевич в статье, опубликованной в газете «Искусство коммуны» в начале 1919 года, писал: «Сжегши мертвеца, получаем 1 грамм порошку, следовательно, на одной аптечной полке могут поместиться тысячи кладбищ»670. Организаторы конкурса предусмотрели систему премирования участников, что было актуально в условиях военного коммунизма. Питерский художник Юрий Анненков получил заказ нарисовать обложку для «рекламной брошюры» будущего сооружения. Позднее он вспоминал: «В этом веселом „проспекте“ приводились временные правила о порядке сожжения трупов в „Петроградском городском крематориуме“ и торжественно объявлялось, что „сожженным имеет право быть каждый умерший гражданин“»671. В середине мая 1919 года Постоянная комиссия «по постройке крематориума» отмечала, что желание участвовать в конкурсе выразили более 200 человек и что «проявление столь большого интереса возможно объяснить лишь назревшей потребностью в осуществлении идеи кремации трупов»672. Одновременно организаторы конкурса вынуждены были признать, что «сложившиеся обстоятельства поставили комиссию в весьма тяжелое положение: приближается срок представления конкурсных проектов, а комиссия не располагает средствами даже в размере, необходимом для выплаты назначенных премий и производства необходимых работ, которые связаны вообще с детальной разработкой проектов»673. Но первоначальные средства, по-видимому, нашлись, и состязания продолжились. Победителем вышел Иван Фомин – автор проекта «Неизбежный путь». Местом постройки крематория была выбрана территория Александро-Невской лавры, что возмутило верующих и представителей петроградской епархии. Лишь нехватка средств и рабочих рук помогла остановить этот акт вандализма.
И все же от идеи спешно ввести в традицию сожжение усопших власти не отказались. Первый советский крематорий начал действовать в наспех переоборудованном здании старой петербургской бани. Очевидцы рассказывали: «Баня кое-где облицована мрамором, но тем убийственнее торчат кирпичи. Для того чтобы сделать потолки сводчатыми, устроены арки – из… дерева… Стоит перегореть проводам – и весь крематорий в пламени»674. Обновленные печи, пригодные для кремации, спроектировал профессор Горного института Вячеслав Липин. В 1921 году он издал брошюру под названием «Регенеративная кремационная печь „Металлург“ системы проф. В. Н. Липина в Петроградском Крематории». По данным автора брошюры, первое сжигание было проведено 14 декабря 1920 года.
Существуют сведения о том, что первого покойника, труп которого предстояло предать огню, торжественно выбрали в городском морге. В этом принял активное участие сам глава комиссии Каплун и приглашенные им Николай Гумилев, Анненков и некая юная особа, имя которой неизвестно. Возможно, это была балерина Ольга Спесивцева675. По свидетельствам очевидцев, обстановка в псевдокрематории была угнетающей. Корней Чуковский писал в своем дневнике 1 января 1921 года: «Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивают места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах»676. И все же процедура сжигания, столь отличная от традиционного захоронения, влекла своей таинственностью, о чем, в частности, свидетельствуют визуальные материалы.
По данным профессора Липина, печь проработала примерно 2 месяца. За это время было кремировано около 400 усопших, в основном неопознанные трупы или тела умерших от тифа в больницах. В марте 1921 года крематорий прекратил работу. Каплун пытался как-то исправить положение, но средств явно не хватало, а с введением нэпа угас и интерес архитекторов и инженеров к идее создания в России системы кремации. Стремление разрушить привычный ритуал похорон следует рассматривать как выражение антирелигиозной политики большевиков в условиях экстраординарности военного коммунизма.
С переходом к нэпу население забыло о «всеобщем праве» быть сожженным. Кремация не стала распространенным ритуалом. Захоронения осуществлялись обычным путем, на кладбищах. Однако именно в первой половине 1920‐х годов идеологические структуры предприняли попытки полностью секуляризировать то, что называлось обычным правом церкви, и ввести обряд «красных похорон».
О необходимости создания новых форм сопровождения человека в «иной мир» в 1920‐х годах писали не только лидеры большевиков, но и литераторы-публицисты. Викентий Вересаев, выступая в ноябре 1925 года в Государственной академии художеств, заявил: «Нельзя новых людей хоронить по-старому»677. Чуть позже в брошюре «Об обрядах новых и старых» (1926), характеризуя новые похороны, он писал: «Похороны уже самых рядовых, простых граждан: какое тут непроходимое убожество, какая серость и трезвость обряда! И какая недоуменная растерянность присутствующих! Приходят люди – и решительно не знают, что им делать. Чувство, которое привело их к гробу, остается неоформленным, путей для его проявления не дается. В лучшем случае – плохенький, полулюбительский оркестр и опять – речи. Но что же можно сказать такого, что действительно бы потрясло сердце, о рядовом враче, транспортнике или металлисте? Будет набор напыщенных и преувеличенных похвал, которые будут только резать ухо своей фальшивостью»678. Литератор считал необходимым создать для советских похорон «нечто разнообразное, сложное и величественное».
По сути своей эти высказывания носили антиклерикальный характер. Часть городского населения была готова к смене обрядов, связанных со смертью близких. В 1925 году без участия священников в Москве прошло 40% похорон679. Похороны моего деда, маминого родного отца, умершего от воспаления легких в 1928 году, проходили по церковному обычаю. Мама хорошо запомнила процедуру отпевания, во время которой она больше всего боялась, что священник ударит кадилом отца по лбу. Неприятное впечатление на нее произвели и поминки: все почему-то ели, хотя, по мнению ребенка, надо было горько плакать.
В годы нэпа, если судить по практикам нашей семьи, почитание могил внешне не было утрачено. Моя бабушка, пока не вышла замуж вторично, постоянно посещала могилу мужа на Новодевичьем кладбище, брала с собой маму. Но на советских погостах царил дух «нового коммунистического равенства» перед вечностью. Всюду появились специальные «коммунистические площадки», которые особенно тщательно убирались и охранялись. При этом власти нередко попирали народные представления о правилах захоронения. Прямо перед папертью Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры, например, с середины 1920‐х годов стали размещать могилы крупных партийных и советских работников. Здесь в 1929 году была похоронена Злата Лилина – жена Григория Зиновьева, одна из ярых гонительниц церкви. В то же время старые захоронения приходили в упадок. Это произошло и с могилой моего родного деда. Наверное, во искупление этого факта, во многом порожденного новой обрядностью, мы с мужем ревностно ухаживаем за местом захоронения моего приемного деда Николая Ивановича Чиркова, умершего в 1977 году. Там, где покоятся его останки, на Охтинском кладбище Петербурга, в очень «ленинградском» месте, удалось предать земле и урны с прахом моих бабушки, отца и мамы, ушедших из жизни в 1984, 1985, 2013 годах. Их мы уже хоронили, используя услуги крематория. В Ленинграде он был построен в 1973 году, и к середине 1980‐х годов многие горожане выбирали «обрядность красного огненного погребения».
Ознакомительная версия. Доступно 27 страниц из 132