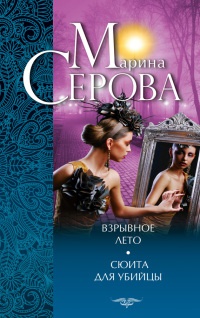Тимофеев звякнул чашечкой о блюдце, заметил.
— Неожиданно.
Кобзев поддержал Тимофеева.
— Как исповедь прозвучало. Действительно неожиданно. Но хорошо. Поэтично.
— Может быть так оно и есть, — высокопарно откликнулся Романенко. Голос звучал вполне искренне. На утверждающей ноте. — Для этого необязательно в храм ходить.
Мнацакян, косясь на дверь, осторожно поставил чашечку с блюдцем на стол, он первым кофе прикончил, в расчёте на добавку.
— Спасибо брату, в смысле совести. У вас совесть проснулась, Артур Алексеевич. Может быть это действительно неожиданно, извините, но приятно.
— Есть-есть, — откликнулся Романенко. — Она у всех есть, только…
— Ага, спрятана далеко… — подсказал Кобзев.
— Или кончилась, как паста в ручке, — дополнил Мнацакян.
Романенко не замечал тонкой иронии.
— Нет, не кончилась. Время… Время, друзья, такое… сложное. Трудно одно с другим соотносить. Законы сейчас пишут те, кто ими и прикрывается. Надуваются, как тот воздушный шарик. Взлетают… Есть даже и высоко взлетают, но обязательно лопнут. Закон природы и диалектики. Это непременно. Вот доживём, выживем, обживёмся, тогда и…
Мнацакян, елозя на мягком стуле, поглядывал на товарищей и на дверь, спросил:
— А не поздно будет? Время-то ведь не стоит на месте, оно ведь… Романенко перебил.
— Может быть и поздно, но… Но, извините, будем реалистами, мы-то, с вами, живём сейчас? Сейчас. Вы что-то там поднимаете… самодеятельность масс вроде, сейчас и будем жить, а? Что скажете, земляки, будем жить?
— Будем, — согласился Тимофеев.
— За этим и пришли, — подтвердил Мнацакян. — Достучались.
Романенко развёл руками.
— Спасибо, что достучались. У меня, кстати, даже гитара с собой здесь… как рояль в кустах… Ха-ха… Шестиструнка. Кремона. Для себя держу. Для души. Под настроение. А оно теперь редко когда бывает… К сожалению, оч-чень редко!
Хозяин кабинета достаёт гитару, берёт несколько уверенных аккордов. Гости внимательно прислушиваются. Гитара хорошо настроена, звучит!
— Что мне нужно вам спеть, приказывайте?
— Одну-две песни, — заинтересованно пожимает плечами Тимофеев. — Может, три…
— Да хоть десять, — соглашается Романенко. — Я и свои могу… Пописываю. Не попса, но хвалят. Лирику вам, патриотику, шансон?
Мнацакян поинтересовался:
— А лирику, это что… напойте.
— Лирику? Пожалуйста… Такую, например. — Берёт несколько аккордов, настраиваясь, поёт чистым, глубоким баритоном.
На обмороженные кисти, Смотрю студёною зимой. Рябинам Южно-Сахалинска, Поклон я делаю земной. Когда весна наступит близко, В часы свиданий по ночам, Рябины Южно-Сахалинска, К моим склоняются плечам. — Это «Рябины Южно-Сахалинска», — поясняет он. — Нравится?
— У-уумм… Прилично! — соглашается Тимофеев.
— Ты смотри… Весьма и весьма у вас голос, — подтверждает и Кобзев. — Неожиданно даже. Как у нашего командира химвзвода, выяснилось. Низкий бас у человека. Представляете?
Низкий-низкий и глубокий. Редкий. Главное, без репетиций и школы. Поставленный. Бас. Никто и не знал даже… Гудит там себе чего-то и гудит.
Трушкин пояснил Романову.
— Это жена лейтенанта, молодец, сообщила. Никто в полку и не знал бы.
Кобзев дополнил важную для Романова «картину».
— К тому же, слух у человека абсолютный, как у вас, и классику любит.
Мнацакян округлил и без того большие глаза.
— Представляете, лейтенант, командир взвода, и на тебе, пожалуйста. Арию Мефистофеля Шарля Гуно выдал! Наш дирижёр чуть в осадок, говорит, не выпал, когда услышал. Едва не задавил его в объятиях. Так рад был, в смысле обрадовался. Вообще запредельно, да? Как у вас. А у вас… вон какой баритон, оказывается. Такой на складах не лежит, в магазине не купишь!
— К тому же хорошо поставленный, — похвалил Кобзев.
Романенко полковые проблемы слушал с интересом, но на последние замечания в свой адрес по-детски обрадовался.
— Так сколько я, извините, так сказать… хмм… работал над собой. А музыка как, а? Моя! Слова правда поэта Богданова. Нашего, сахалинского. Вы его наверное не знаете. Земляк мой. Я-то сам тоже с Сахалина, да! Давно уже уехал, перевёлся. Но песни мои больше о Сахалине. Как говорится, всяк кулик… А чего же мне другие края, извините, хвалить, правильно, да, если я с Сахалина! О нём и пою… О Москве пробовал — не получается. Не те флюиды, подпитка не та! Гены, наверное! Природа! А вот такая, например, моя песня, как вам: «Островная сторона».
Снегопадом карусель за метелью шлёт метель, Наши улицы в снега пеленая. Но сверкнёт лучом апрель, И зазвенькает капель, начинается Весна островная. Островная сторона, лето-осень и весна, Умещаются всего лишь в полгода. Зазвенит ручья струна и душа любви полна, у всего островного народа… Мнацакян уже забыл про… кофе.
— Ну и голос у вас! Здорово! Кобзон с Лещенко отдыхают. Вам петь надо, товарищ.
Романенко заметно жеманничает, скромно бормочет.
— А я и… хотел было, но… Теперь больше кулуарно. Других предложений нет. Как выдам, бывает, в комнате распевку: «ля-ми-ля-мии» — слушатели глохнут. Я знаю. Вижу. Удивляюсь только: откуда голосина такой прёт! А он всё мощнее и мощнее, я вижу. Хотите убедиться?
Мнацакян отказывается, вспомнил про оставленную в приёмной секретаршу, скучает там, наверное, без него.
— Здорово. Мощно. Патетически! А говорили нет у нас талантов, не сможем, умерло всё, затухло…
Романенко не согласен с этим, не соглашается.
— Что мы не сможем? Что у нас затухло? Где, молодой человек? Никого не слушайте. Таланты в России есть! Они всегда были и всегда будут… Пока народ наш есть. А он всегда будет. Видите же: и пою, и народу служу, и… все остальное.
Тимофеев подхватывает патриотическую волну.
— Так вы согласны, мы договорились? Вы споёте у нас?
Романенко театрально пожимает плечами.
— Да пожалуйста, со всей душой. Хоть отделение, хоть весь концерт. У меня столько напето.
Мнацакян победно смотрит на друзей.
— Что и требовалось доказать. Ура!
— Ловим на слове. Сначала в составе, потом и сольно, по ротам, для солдат. Пойдёт?