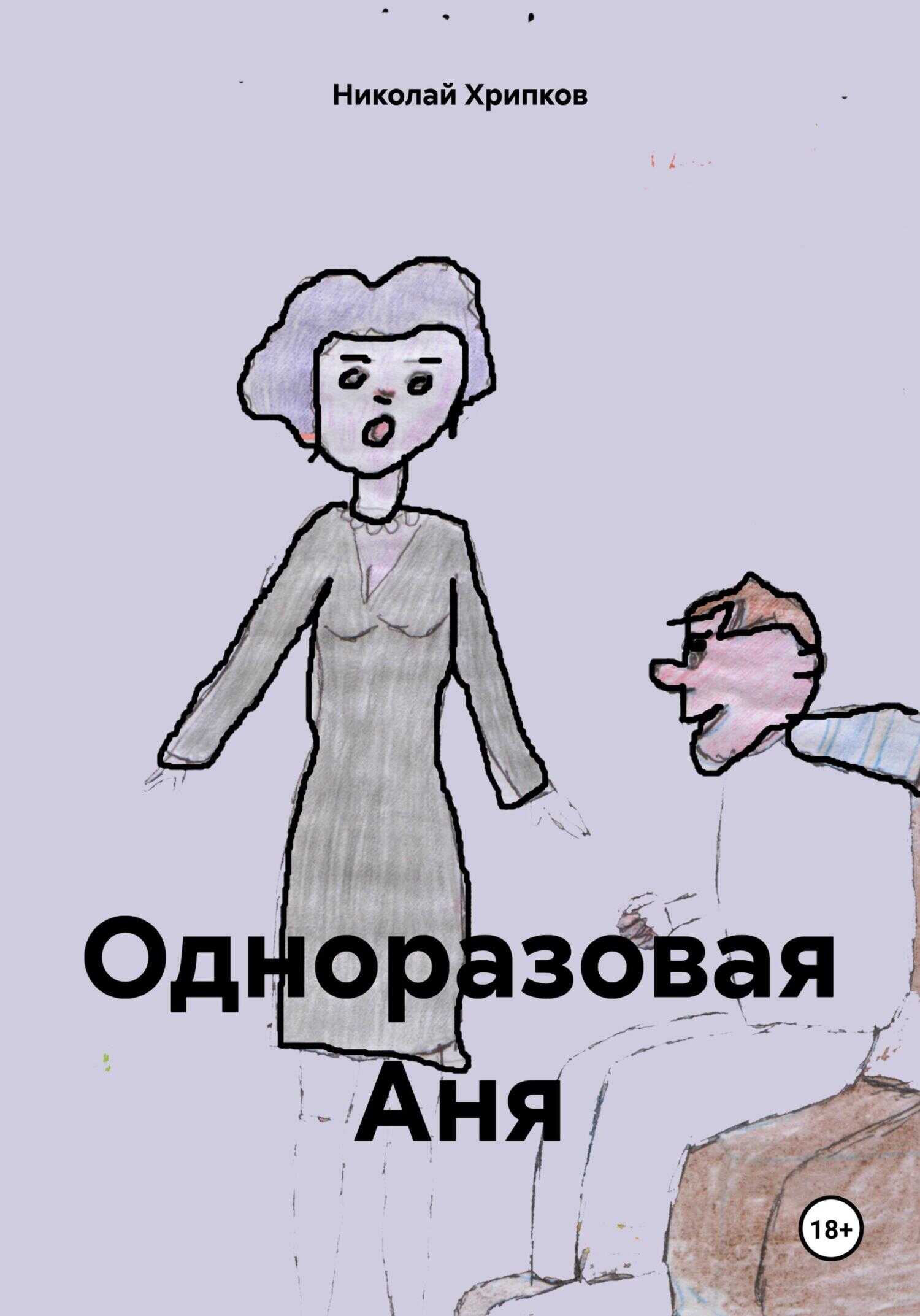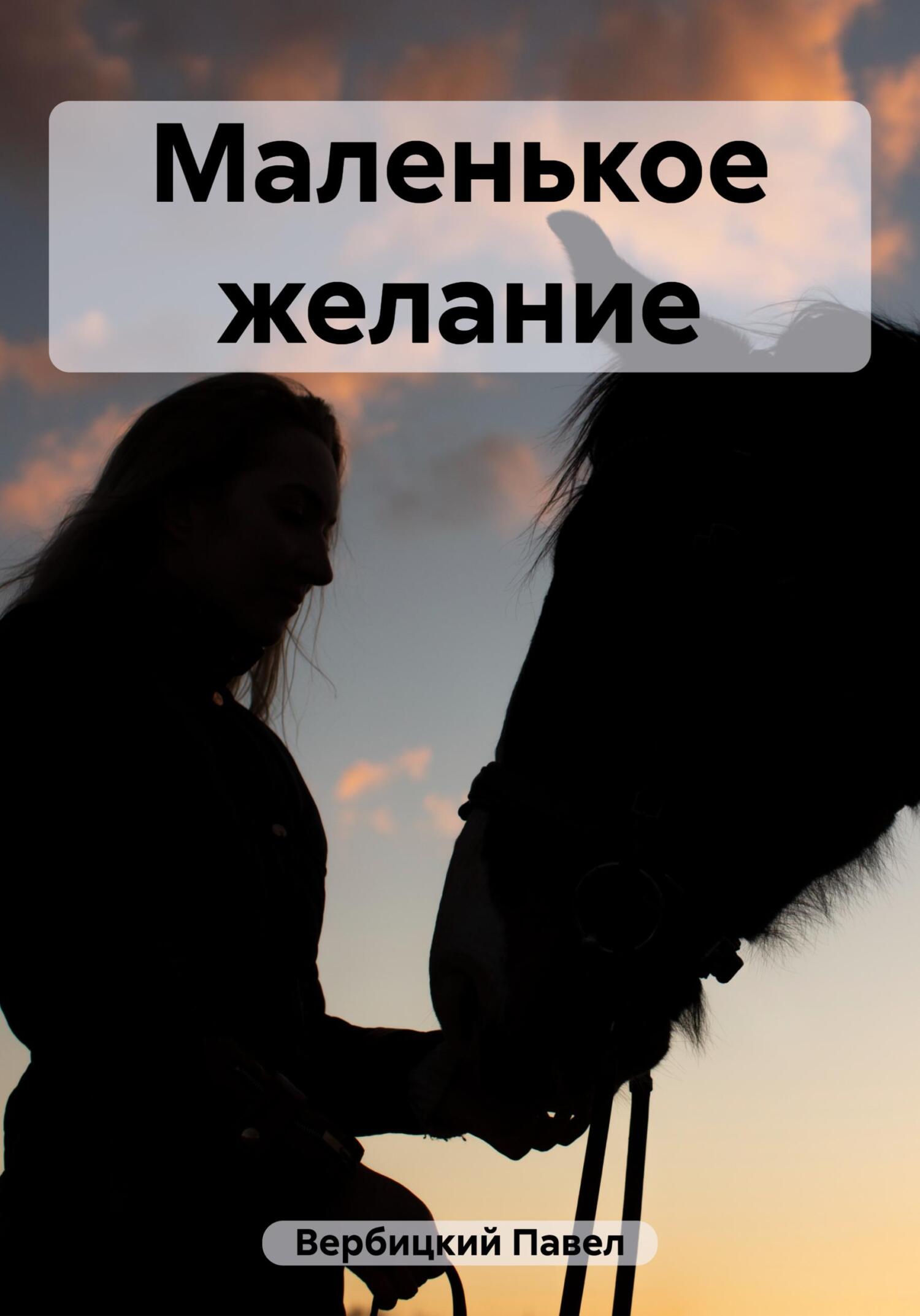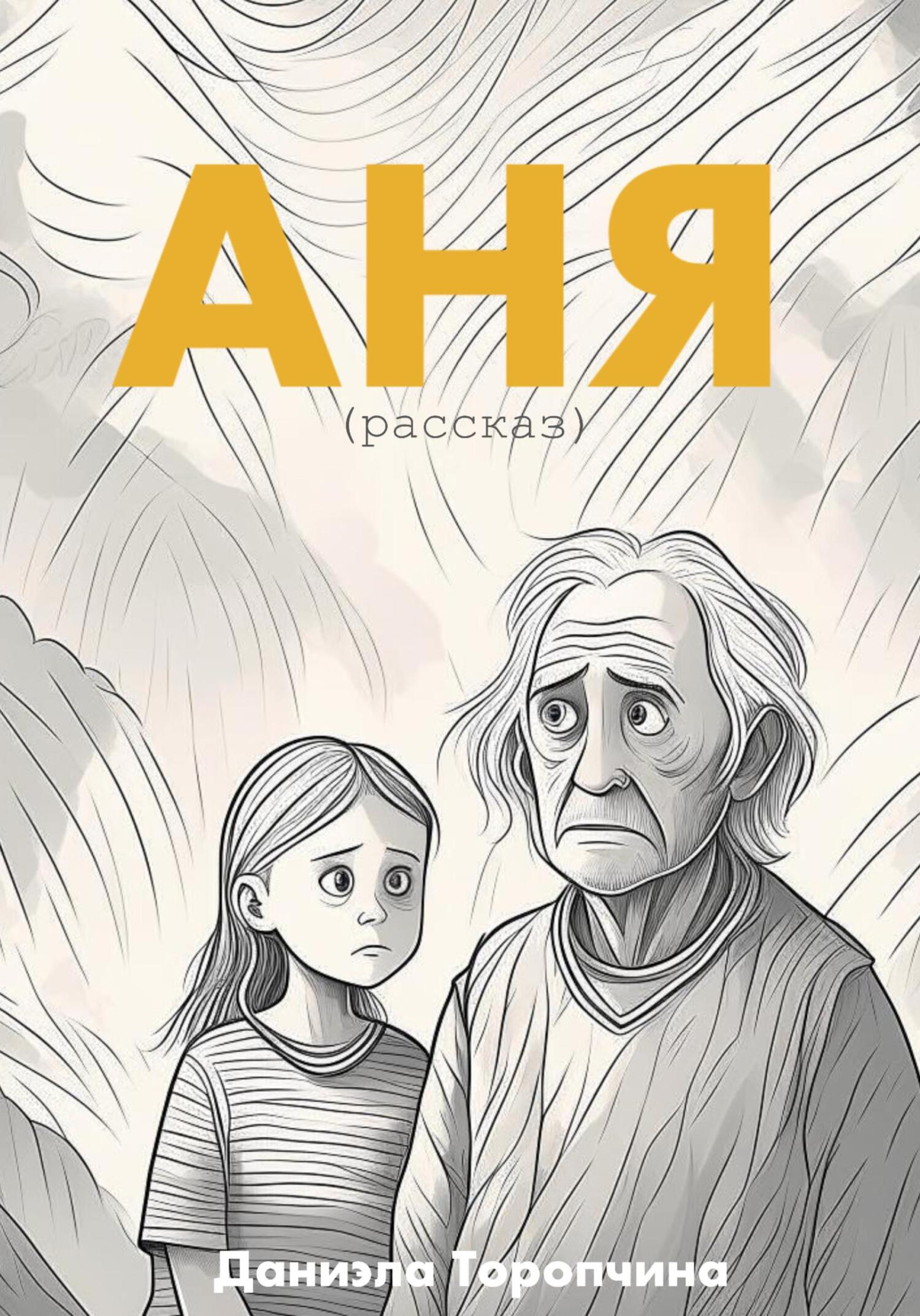придет со мной поиграть?
Аня идет на кухню, открывает холодильник и смотрит внутрь, видя только солнце, висящее в центре стены, и глаза заливает белым светом, и она застывает перед открытым холодильником, ничего не видя. Из холодильника идет ледяной воздух, оседающий на Анином теле белым налетом – плотным слоем холодного, концентрированного, спрессованного шока.
Звонок телефона вывел ее из оцепенения.
– Але?.. Ой, Машка, привет!
– Привет, – донеслось из телефона. – Ну как ты?
– Да я-то что… Нормально… Чуть приболела, но мне уже лучше. Ты-то как? Я видела у тебя на странице, ты замуж вышла? Поздравляю! Кто он?
– Антон, – расплылась в улыбке Маша. – Спасибо, дорогая, спасибо!
– Как ты? Счастлива?
– Еще как. У нас же недавно сын родился.
– Правда? Вот здорово! И как молодой папаша, помогает?
– Ну как… Вообще да… – Маша понизила голос. – Однажды только, когда Ваня сильно кричал, он запер меня с ним в комнате.
– Запер? В смысле? Зачем?
– Не знаю. Это было по-идиотски. Но он извинился, и вообще все в порядке. Ты, кстати, Петра, – она заговорила шепотом, – больше не видела?
– Нет… Слава богу.
– А-а, ну хорошо. Если что…
– Я помню.
Они еще болтали о чем-то, и в какой-то момент Ане ужасно захотелось рассказать обо всем, что у нее происходит. Но как? С чего начать?
«Знаешь, Маша, полгода назад…» – нет, ерунда, это она до вечера рассказывать будет. «Представляешь, Маша, сегодня ко мне пришел…» – ну, и кто пришел? «Один женатый мужик, у которого четверо детей, – пришел и сказал «не грусти». Но он, Маша, меня любит, любит, да-да-да… Иначе бы не пришел».
Аня поняла, что не может сказать об этом ни слова. Лучше не рассказывать совсем.
Но действительно – зачем он все-таки пришел? Передать тарелочку? Ерунда. Он мог отправить ее по почте или попросить общих друзей. Он просто хотел ее увидеть. И она, конечно, была счастлива, но…
Но теперь его не было, и сознание того, что он был здесь час назад и снова ушел, оставив на стене глупое глиняное солнце, вызывало все тот же привычный шок и недоумение.
Тарелочка светилась на стене, и Аня вдруг посмотрела на нее с бессильной злобой и сказала:
– А знаешь что? Ты думаешь, тебе все можно? Наговорить ерунды, молчать целый месяц, а потом прийти как ни в чем не бывало? Хорошо же!
– 14–
– Так, значит, ты едешь к нему?
Мама приехала неожиданно, по своим делам. К этому времени Аня уже все решила, и мамин приезд был не более чем совпадением.
– К нему.
– Это он тебя позвал?
Аня взяла кружку и положила в нее чайный пакетик.
– Помнишь, – сказала она, – как раньше, в Северске, мы пили чай из пиалушек?
– Помню. Я их на Иссык-Куле купила, когда вы со Светой маленькие были.
– Ага, – кивнула Аня. – А баб Нюра пила из блюдечек, а ты еще смородиновые листы…
– Ты сама решила ехать?
Аня кивнула.
– Он знает?
– Нет.
– Понятно. Где остановишься?
– Квартиру сниму.
Мама потерла лоб ладонью и устало посмотрела на Аню.
– Не надо, пожалуйста. Не лезь в чужую семью.
– Я сейчас напишу тебе адрес, чтобы ты не волновалась, – тихо сказала Аня.
– Когда едешь?
– Завтра утром… Мам?
– А?
– А ты помнишь, как мы на Иссык-Куле жгли сосновые шишки?
Мама вздохнула и поставила кружку в раковину.
– Иди, собирайся. Я сама помою.
* * *
Страшно было ехать в малознакомый город, в чужую страну – ведь Аня при этом была совершенным топографическим кретином. Она вспомнила, как в детстве поехала к маме на рынок одна. Мама нисколько не беспокоилась – ехать нужно было без пересадок, да и Аня была уже не маленькой, лет двенадцати, наверное. Мама сказала:
– Садись на «четверку» и смотри в окно. Когда проедешь зеркальный торговый центр, выходи.
Аня кивнула. На «четверке» она сто раз ездила вместе с мамой, папой или Светкой и торговый центр этот тоже помнила, вот только отчего-то стала смотреть в другое окно. Она опомнилась, когда вокруг начался лес.
Свои нижние юбки я покрашу в красный, И, бродя по миру, буду просить хлеба. Мои родители пожелают мне смерти – Лишь бы тебя обошли стороной несчастья!
Аня шла в аэропорт, чтобы уехать в чужую страну, и черная сумка болталась на ее плече, а в ушах гремела музыка.
Иди, иди, иди, любимый, Пускай спокоен и тих будет твой путь. Подойди к двери и унеси меня в своем сердце. Лишь бы тебя обошли стороной несчастья!
Аня вспоминала, как в июле вышла в Белостоке в магазин, испугавшись поначалу, что не знает, как его найти.
Напрасно, напрасно, напрасно желаю Обратно заполучить свое сердце. Нет смысла думать, что я не буду страдать. Лишь бы тебя обошли стороной несчастья![124]
– Но нашла же, дурочка, нашла, – напевала она на мотив песни в наушниках. – Чего ты боишься?
* * *
– Чы воли пани венькшэ чы мнейшэ банктноты?[125]
Разглядывая знакомые купюры, Аня улыбалась. План был настолько же простым, насколько и глупым: заселиться в квартиру, принять душ и пойти к Пану – адрес она помнила, – встать на пороге и сказать:
– Звони.
До заселения было еще три часа, она решила прогуляться и просто пошла вперед, где маячили высокие железные ворота. Ей было совершенно все равно, куда идти, главное – не останавливаться, не думать, не бояться. Довольно скоро Аня поняла, что за воротами городской рынок.
У ворот сидел маленький мужчина в болоньевой куртке и играл на баяне. Аня улыбнулась и почувствовала себя тоже очень-очень маленькой. Она шла через толкучку, с изумлением оглядываясь. Аня словно оказалась в своем детстве: люди вокруг были одеты как двадцать лет назад, и везде звучала русская речь. Стало понятно, почему в этом городе все понимают русский: просто это был город-рынок, в который все приезжают за покупками.
Тут ее взгляд привлекло какое-то яркое пятно. Она пригляделась и увидела в одной из палаток ярко-красную юбку. В палатке сидела царственная женщина в длинной шубе и курила сигарету.
– Мама, – прошептала Аня.
– Сто злотых.
Странно, но, когда внутри оказалась юбка, сумка словно стала легче. Аня шла вперед, не понимая, куда идет, и поминутно поскальзывалась. Мокрая плитка была похожа на серый лед, и Аня словно шла одновременно в двух параллельных измерениях – сразу и в Польше, и в каганате. Только что купленная красная юбка согревала руки одновременно в двух пространствах, и Аня чувствовала, как там, в каганате, снег тает, не долетая до ее головы, а соль размягчается