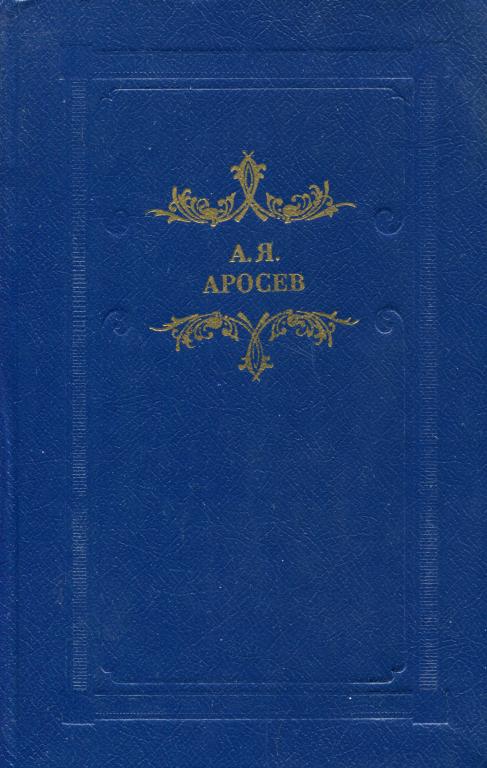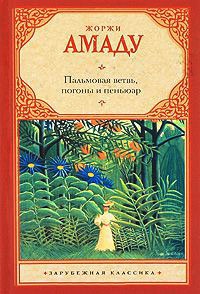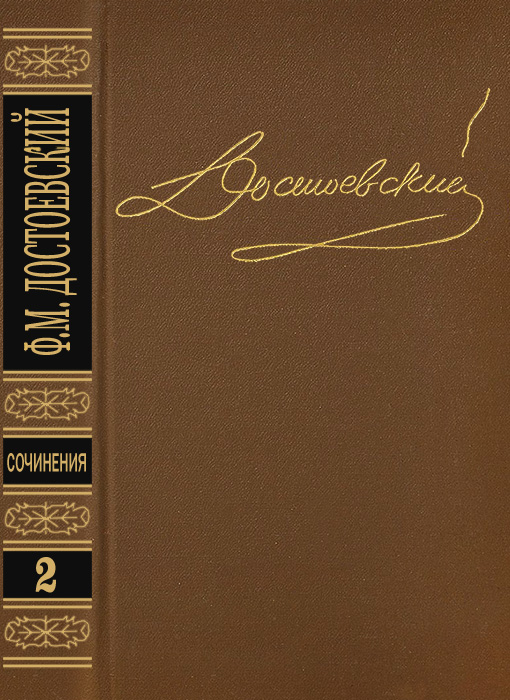записанными еще две страницы, которые должны были служить заключением всей тетрадке. Кузьма так и озаглавил их «Epilog». Вот что стояло в этом «Эпилоге»:
Не хочу я, чтобы сей мой дневник кончался ругательством, и потому пишу эпилог, или заключение. А больше писать в этой тетради не буду, потому что она мне омерзела. Противно мне взять ее в руки, так как много в ней написано лжи, вольной и невольной.
Ложь и глупость все, что я здесь писал про Аркадия, и правда только последнее слово: подлец и есть. Он так перетрусил, что тотчас и из Москвы уехал: перевелся служить в Харьков. Только напрасно пугался: ни к чему его принуждать мы не сбирались. Да и не пошла бы сама Даша за него, потому что поняла всю низость его. Даже за Степаном Флоровичем Гужским будет ей лучше. Вчера был сговор и благословение. Папенька их образом благословил и пообещал, что даст не двадцать, тысяч, а тридцать, только чтобы они были положены на, имя Даши, для ее и ее детей. Так что папенька даже очень благородно поступил, и Даша, хоть и плакала, с судьбой своей помирилась. И Степан Флорович тоже пообещал ей, что не будет препятствовать ей книги читать, а детей, если пойдут, они отдадут учиться в гимназию. Может быть, и суждено будет им жить лучше, нежели нам.
А еще ложь и глупость, что я писал о Фаине. Ей только и нужны были от меня деньги, как это скоро все и, обнаружилось. Я к ним зашел, так как она меня приглашала, и она опять завела речь, что вот, дескать, надо, чтоб я в ихнее общество вошел и взял пай в пятьсот рублей или два пая в одну тысячу рублей. Когда же я Фаине сказал, что эдаких денег у меня не бывает, и весьма сериозно это ей подтвердил, она вдруг разговаривать со мной перестала и объявила, что ей, де, нужда куда-то поехать. А я, дурак, после другой раз наведался.
Дверь отпирала Елена Демидовна, на меня эдак косо посмотрела, буркнула: «Фаины дома нету», — и опять дверь захлопнула, прямо под носом. Я побрел, несолоно хлебавши, восвояси, три дня думал, после письмо написал. Только никакого ответа не удостоился получить. А еще после Лаврентий мне рассказал, что он это доподлинно узнал, что из Полтавы уехала Фаина потому, что чересчур оскандалилась поведением, и что у нас, в Москве, она уже завела себе одного, именно офицера, — и все это Лаврентий выведал верно и мне все имена назвал.
А я себе зарок дал: в чужое общество не ходить; сижу, как сыч, один и буду сидеть. Прав был папенька, говоря: «Не к лицу нам это». Выскакиваем мы, думаем не только уму-разуму набраться, но на людей, так сказать, высших интересов посмотреть и, по необтесанности своей, все у них за чистую монету принимаем. Они-то промеж себя знают, что их слова — так, мякина одна, а мы, пока не привыкнем, не можем этого в толк взять. Вот я и напоролся; и Даша напоролась. Так лучше нам в своем кругу держаться: тут, по крайности, все нам понятно, и никто нас не проведет за нос. И беспокойства меньше, и для сердца куда легче.
А все ж таки (и это будет мое последнее слово в сем «Журнале») не должно отчаиваться, ежели один оказался — подлец, другая — потаскушка. Свет не клином сошелся на двух людях. Мое горе-злосчастье в том, что дороги у меня к настоящей интеллигенции нет. Должны где-то быть и такие люди, которые не только слова говорят, но проводят в жизнь высшие принципы. Ежели в нашу эпоху Россия пробуждается, то есть же и эти ее пробудители, поборники добра и правды. Где вы, работники нивы народной, сеятели знания и культуры, я не знаю! Не подняться мне до вашей высоты из моей топкой трясины, но я верю, что вы где-то стоите, призывая к честному делу. И уже есть круги общества, в которые не задаром упали ваши семена и которые истинно чтут ваши заветы, только мне не найти туда входа. Но ежели не мне, так детям нашим удастся идти по проторенным вами тропам, и за это навсегда вам будет от всего русского народа великая благодарность и слава. Не потерял я веры в лучших людей и буду этой верой крепиться в том аде кромешном, в котором сам обречен погибать!
Кузьме очень хотелось закончить свои патетические восклицания стихами, но, подумав, он отказался от этого замысла. «И поэтом быть — не мое дело! — сказал он себе, но сейчас же добавил: — Вот другое дело дети Да-шины, ежели они гимназию пройдут. Как знать, может быть, и окажется среди них — такой поэт, что вся Россия восхитится. Жаль только, что фамилия у него будет такая неподходящая: Гужский. Надо будет посоветовать Даше, чтоб хоть имя выбрала покрасивее, например: Игорь, Валентин или Валерий!»
Рея Сильвия*
Повесть из жизни VI века
I
Мария была дочерью Руфия, каллиграфа. Ей не было еще десяти лет, когда 17 декабря 546 года Рим был взят королем готов Тотилою. Великодушный победитель приказал всю ночь трубить в букцины, чтобы римляне, узнав об опасности, могли бежать из родного города. Тотила знал ярость своих воинов и не хотел, чтобы все население древней столицы мира погибло под мечами готов. Бежал и Руфий со своей женой Флоренцией и маленькой дочкой Марией. Беглецы из Рима громадной толпой целую ночь шли по Аппиевой дороге; сотни людей в изнеможении падали на пути. Все же большинству, в том числе и Руфию с семьей, удалось добраться до Бовилл, где, однако, для очень многих не нашлось приюта. Пришлось римлянам расположиться станом в поле. Позднее все разбрелись в разные стороны, ища какого-нибудь пристанища. Некоторые пошли в Кампанию, где их захватывали в плен господствовавшие там готы; другие добрались до моря и даже получили возможность уехать в Сицилию; третьи остались нищенствовать в окрестностях Бовилл или перебрались в Самний.
У Руфия был друг, живший около Корбия. К этому бедному человеку по имени Анфимий, промышлявшему на маленьком клочке земли разведением свиней, и повел свою семью Руфий. Анфимий принял беглецов и делил с ними свои скудные запасы. Живя в жалкой хижине свинопаса, Руфий узнал о всех бедствиях, постигших Рим. — Тотила одно время грозил срыть Вечный Город до