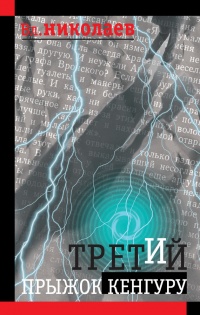Хотя это не совсем правда, я не столько забыла, сколько вывернула его наизнанку, перепрофилировала и время от времени откалывала на нем шуточки в духе: «Иисус, ну ты что, в хлеву родился?» или «Вы только поглядите на божий пресс, просто вылитая кукурузина!» Иногда люди обвиняют меня в богохульстве, что, в общем-то понятно, у них есть на это право. Но для меня это не богохульство, а идиома. Это мой способ не терять связь с языком, на котором меня воспитывали, и который, несмотря на мое отречение, всегда будет частью меня. Слово «Бог» нельзя просто взять и выбросить из своего словарного запаса, так же как нельзя отлепить солнечный диск от неба. Все эти истории и откровения в окно не выкинешь. В критически важные церковные моменты я всегда была удивительно косноязычной, но когда я оставалась наедине с собой, все эти древние слова, исполненные тихого почтения, и ласковые строки сами собой ложились на страницу, а та принимала их и прощала.
Иногда я жалею о том, что в детстве была так одержима вопросом «Почему мы здесь?» Но такими вопросами, наверное, рано или поздно задаются все дети. Писать о своих родителях – это все равно, что рассказывать историю о том, как еще чуть-чуть – и тебя вообще могло бы не быть, перечислять все причины, по которым тебя не должно было существовать. Писать о доме – значит писать о том, как некая сила выдернула тебя из космоса и кометой притянула к земле, как ты попал в страну, штат, город, и наконец в четырехугольный дом, и наконец в тело своей матери, и наконец в свое собственное тело. Из огромной галактики – в крошечное зернышко и обратно. Из отпечатка пальца – в грандиозный узор. И вот, несмотря на все перипетии Вселенной, мы здесь, проживаем каждое мгновение нашего пребывания на земле. Мы здесь. Мы есть.
В семнадцать я уже балансировала на грани безумия, которое однажды отберет меня у пения, «Божьей Банды» и того общества, которое уже затянуло у нас на шее свою петлю. Незадолго до этого я отправилась навестить кармелиток, один из последних монашеских орденов. Внутри монастырь показался мне голым – бледное полотно, сандаловое дерево, линолеум и скрюченные деревья за окнами. От него пахло старостью – и человеческой, и исторической. Я представляла себе, как монахини едят на ужин чечевицу и хлеб грубого помола, теснясь за длинными дупловатыми столами, под звуки молитв, мягко бьющихся о потолок у них над головами, прямо как воздушные шарики с гелием. Не зря их называли обсервантками. Я воображала, как они пьют воду – куда более чистую, чем та, которую пила я, и едят фрукты, будто сорванные с полотен Сезанна. Они овладели способностью не владеть ничем, потому что, в отличие от священников, отреклись от своего имущества.
Я отправилась вместе с ними в часовню, встала там на колени и разрыдалась над просвирой. А как иначе, ведь она была такой чистой, воздушной и совершенно бумажной на вкус? И на этой бумаге было изложено все, все, что имело значение. Когда мы вышли, ко мне подошла одна из монахинь. Она производила впечатление женщины, которая, несмотря на аскезу, веревочные сандалии и неистребимую коричневость своего гардероба, сама распоряжалась своей жизнью. Я вспомнила о том, как отец, всякий раз встречая монахиню, подходящую под определение феминистки, говорил мне: «Лапуля, да она просто злится, что ей никогда не стать священником». Он заверял меня, что этому не бывать, пока стоит сама церковь, потому что и он сам, и его люди были служителями Христа, а Христос был мужчиной.
Но лично я не мечтала о том, чтобы стать священником. Я была такой же, как и любая другая девушка, подумывавшая о том, чтобы уйти в монастырь: мне просто хотелось оказаться там, где я могла бы спокойно думать и где никто бы на меня не смотрел. Хотела спать в кровати, где хватало бы места лишь мне и моему личному спасению. Я хотела выбрать ограничение, чтобы спастись от него, потому что ничего иного всю жизнь не знала.
Было холодно, хоть до зимы было еще далеко, и снаружи выло что-то, но точно не ветер. Это было неверие, но до нас ему было не добраться. Только не в тех стенах. Пока мы стояли на коленях в часовне, окруженные запахом увядающей листвы и ключей, солнце село. Квадратное окно за спиной у монахини окрасилось в цвет оникса и стало похоже на камень в перстне на руке его святейшества, который полагается целовать в поклоне.
Монахиня взяла меня за руку и посмотрела наверх. Прядь черных волос выбилась из-под ее апостольника. Должно быть, она смогла разглядеть во мне, что я была в процессе прозрения, как они говорили. Я и сама чувствовала, что со стороны выгляжу как первый размашистый штрих валика, покрытого белой краской – я мокрая, странно блестящая и страстно желаю изменить свою жизнь.
– А тебе религиозная жизнь подходит, – сказала она со спокойной уверенностью на лице, которое и само по себе чем-то напоминало крест. Она даже не потрудилась придать своим словам вопросительную интонацию.
Мое призвание было очевидно, буквально на лбу написано. Два года спустя я запрусь в персональном монастыре, первая и единственная послушница ордена собственного одиночества, и глубокими ночами буду отправлять свои стихи незнакомцу. Четыре тесные стены и соборное пространство между ними, с каждым мгновением все ближе к самой себе.
Я возвращаюсь к священнику, который привез меня туда по бездорожью в будний день. Он отвечал за процесс подготовки учеников к будущем профессиям. Поговаривали, у него хранился кусочек Единственного Истинного Креста. Он позвякивает связкой ключей в кармане, среди которых особенно грозно звучит ключ от собора, и моргает своими черными глазами, похожими на черную гальку – она тоже числилась в моей коллекции. Через два года его запрут в камере куда меньше и унылее, чем эти кельи. Я говорю ему, что готова ехать домой.
20. Время острова
Я пообещала себе, что когда все это закончится и у меня останется немного денег, я отвезу маму в Ки-Уэст.
– Как ты думаешь, папа хотел бы поехать с нами? – спросила я ее, но она сомневалась. Во время отпусков он по большей части не выходит из номера, да и к Флориде питает весьма двоякие чувства. С одной стороны, это естественная среда обитания разных кораблей, вместилище соленого воздуха и гигантских креветок. А с другой – это писька нашей страны, в которой угнездились гомосексуальные мыши из Диснея.
– Ки-Уэст для него – худшее место на земле, – сказала мне мама. – Он думает, что там законно устраивать парады голышом.
Не знаю точно, когда именно мы загорелись этой идеей – возможно, как-то ночью, в самый разгар типичной среднезападной зимы, когда мы сидели дома и снаружи бушевала вьюга, а внутри казалось, будто время застыло и стрелки приклеились к циферблату. Ветер, прилетавший к нам из Канзаса, казался разгневанным из-за того, что у него больше не было моря, по которому можно было бы носиться, взбивать его, создавать волны. Должно быть, именно он заронил нам в головы мысль о том, чтобы отправиться в Ки-Уэст. В моей памяти он был бледно-золотым, в очертании голубых чернил, а в центре лежал битком набитый сундук с сокровищами – прямо картинка с детской пиратской карты, которую я, сама того не зная, всегда носила при себе. Мы обсуждали эту поездку целый год, но и сами до конца не верили в то, что она состоится. А потом я продала свою книгу, купила три билета и сообщила маме, что она будет сидеть у окошка.