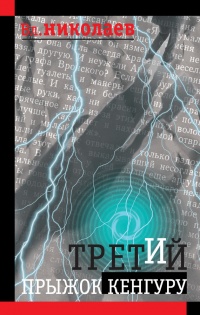– Уже поздно, – говорю я, бросая косой взгляд на свой ноутбук, в котором открыт документ, где я как раз набрасываю воспоминания о нашей первой поездке. Я кладу трубку и посмеиваюсь, вспоминая о том, как он сидел за рулем в футболке с надписью «Психотическое состояние», которую потом унаследую я и буду носить в выпускных классах. Если бы я смогла описать его таким, какой он есть на самом деле, я была бы величайшим гением на земле. Если бы я только могла увидеть все так, как это было, и показать вам, как все происходило на самом деле.
Когда я была совсем маленькой, мы с отцом как-то раз ездили на машине в Калифорнию. Тогда я впервые оказалась так надолго и так далеко от мамы, и, судя по тому, с каким скорбным выражением лица она махала вслед фургону, она даже не надеялась, что меня когда-либо вернут ей целой и невредимой. Папа заверил ее, что мне будет полезно познакомиться с миром, и крепко пристегнул меня рядом со своим творением шести футов длиной, изображавшим Тайную Вечерю. Сплошь угловатый, но все еще угадываемый Иуда склонялся к Иисусу, уже зная, что предаст его. Всю дорогу до Калифорнии я вглядывалась сквозь этот пышный витраж в пышущие изобилием пшенично-виноградные пейзажи нашей страны. У меня на коленях лежал мешок с виноградом, и когда я подносила его к свету, в нем блестели прожилки, прямо как в стекле витражного окна. Вечно накрытый стол, трапеза длиною в вечность. История гласила, что ее достаточно, чтобы навеки накормить голодных.
– Хочешь шкварку? – спросил отец с переднего сиденья. Я взяла одну и также поднесла ее к свету. Она была прозрачной, с пузырьками и такого же цвета, как мочка уха. В то время свиные шкварки были нашей любимой закуской, но вскоре я узнала, что их делают из кожи, и решила от них отказаться.
– Вот это вещь, – говорил отец. – Запомни, малышок, свинка хороша только в таком виде.
По радио гремел безумно сочный бас «Сердца Рассвета», одной из папиных самых любимых песен. Его ремень безопасности свободно болтался рядом с его плечом, колеса микроавтобуса пересчитывали мили. Три виноградины в моей сумке превратились в изюм, и в этом было что-то библейское.
– Пап, мне нужно выйти, – сказала я.
Он и сам к тому моменту не мочился уже восемь часов кряду и видел в этом некое моральное достижение, наравне с постом, ношением власяницы или чем там еще, черт возьми, занималась Жанна д’Арк.
– Ну, ты знаешь, что делать, – сказал он, кивнув на пластмассовый детский горшок, стоящий в углу фургона.
Что ж, вот и настал момент испытания. Я отстегнула ремень и бросила умоляющий взгляд на Иисуса, изображенного на Тайной Вечере. Говорили, он спасал страждущих, предлагая покарать себя вместо них. Я стянула шорты на резинке, которые были такого же цвета, как лекарство от диареи, и уже начала было опускаться на корточки, как вдруг отец с сатанинской решительностью автодорожного убийцы перестроился на соседнюю полосу, и меня во всей красе сбросило с горшка и метнуло в сторону бокового окна. В итоге, целая вереница едущих следом за нами фур вынуждена была лицезреть расплющенный о стекло голый детский зад.
– Ха-ха-ха-ха! – расхохотался отец диким смехом человека, взвалившего на себя задачу везти через всю страну в своей машине ведро мочи и церковный витраж. И хотя лицо мое покраснело даже сильнее, чем чаша в руках Иисуса, я знала, что мы с ним думаем примерно об одном и том же: ох и будет нам что рассказать дома!
Спотыкаясь, я вернулась на свое место и пристегнулась. Интересно, думала я, а кому на самом деле принадлежит история, рядом с которой я еду? Ни я, ни мой отец не могли заявить на нее свои права. Она принадлежала какой-то очень далекой церкви, которой никто из нас и в глаза не видел. Ее вставят в каменную стену, откуда она будет проливать свет на добрых людей, точно камешек агата. Все эти постные плоские лица, плоские хлебцы для причастия, плоские нимбы, плоский Спаситель и плоские грешники – вот он срез того, что произошло на самом деле. Не так ли? Разве все это невозможно?
На следующее утро в солнечном бунгало в Сан-Диего я почувствовала, как движется земля – и подо мной, и во мне самой: сначала она легко вздрогнула, затем зарокотала и сдвинулась на пару дюймов ближе к синему морю. Крест на голой стене надо мной накренился, сердце сжалось в груди. Это было такое интимное переживание, что я думала, оно принадлежит мне одной, пока не вошла в незнакомую мне кухню поесть хлопьев с молоком и отец не сообщил мне, что произошло землетрясение. И что его почувствовали все люди, жившие на этой земле. Хорошо, что они еще не установили окно, подумала я, оно могло треснуть и распасться на сто осколков, отделив Христа от последователей и предателя. И когда все улеглось, я поняла, что в мире нет никого, кто смог бы взглянуть на мешанину этих разноцветных осколков на земле и снова собрать ее воедино, восстановив, как было.
Первые несколько недель мы с Джейсоном наслаждаемся тем, что делает брак полноценным: совместным имуществом и возможностью не таясь обсуждать наши дела. Бывают моменты, когда нам как будто чего-то не хватает, но вскоре мы понимаем, что это либо а) гитара, либо б) запах мяса. Иногда мы заполняем эту пустоту – я воссоздаю запах мяса и готовлю сложное охряно-красное тушеное мясо, а Джейсон замещает звуки гитары пронзительным фальцетом Нила Янга. Время от времени я даже кладу в одну из раковин Тряпочку, чтобы мы не забывали, откуда мы родом.
Нам больше не нужно говорить ни о епископе, ни о рясах, ни о крестах, ни о потирах, но мы все равно это делаем. Мы теперь часть этого круга, хорошо это или плохо. Последние сплетни посвящены эпическому триптиху, который отец заказал повесить над алтарем, чтобы его безнадежно современная церковь стала выглядеть чуточку более традиционно. Когда его наконец доставляют и отец с застенчивой гордостью торжественно открывает его перед нами, когда мы как-то раз приезжаем к ним на выходные, мы с удивлением обнаруживаем, что художник изобразил Иисуса в памперсах. Буквально. Десять тысяч баксов за изображение воплощенного Слова в подгузниках.
– Когда ты перестал ходить в церковь? – спрашиваю я у Джейсона позже тем же вечером, хотя он мне уже рассказывал раньше. Мы в постели, во власти чудесного уединения, в которое мне до сих пор трудно поверить. Я прижимаюсь к его груди, и мои волосы – поле битвы воробьев – мягко волнуются от его дыхания.
– Мне, наверное, было лет двенадцать или тринадцать. Я просто сказал отцу, что больше туда не пойду. Мы с ним разгружали посудомойку, помню, очень спокойная была обстановка. Мы не ссорились, ничего такого. Он сказал: «Если, по-твоему, вся эта история – выдумка, как так вышло, что за нее погибло столько людей?» И лицо у него такое было, мол, шах и мат. «Мне очень жаль, пап, – сказал я. – Но люди во все времена умирали за самые разные религии».
– Ну да, и он замолчал, – заканчиваю эту историю я.
Джейсон тоже молчит.
– А когда ты перестала верить? – спрашивает он в свою очередь, хотя знает, что это случилось не за одно мгновение.
– Просто растеряла веру, когда уехала из дома. Это было все равно, что забыть язык, на котором ты говорил в далеком детстве.