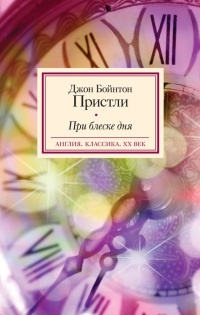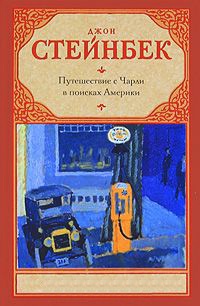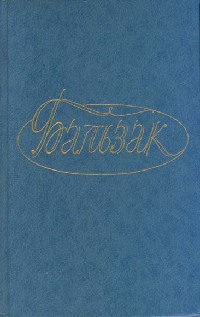– Мне вспоминается необыкновенная история, связанная с этим склепом, – сказал он. – Сначала я даже удивился, отчего такими знакомыми мне показались и эта дверь, и эти своды. Я не сразу вспомнил; столько всего странного приходит в голову каждый день, что события, которые другому запомнились бы, вероятно, на всю жизнь, проплывают передо мной, как тени, а мысли обретают плоть. Событиями для меня становятся чувства – вы ведь знаете, почему я попал в этот проклятый монастырь, – ну, нечего дрожать и бледнеть, и без того вы достаточно бледны. Как бы то ни было, я очутился в монастыре и должен был подчиниться его дисциплине. А она предусматривала для чрезвычайных преступников так называемое чрезвычайное покаяние: это означало, что они должны не только безропотно переносить все унижения монастырской жизни и подчиняться всем ее строгостям, – а, к счастью для кающихся, в подобного рода развлечениях никогда не бывает недостатка, – но и нечто другое: всякий раз, когда виновного подвергали какому-нибудь необычному наказанию, людям этим вменялось в обязанность быть его исполнителями или во всяком случае при нем присутствовать. Настоятель оказал мне честь, решив, что я как никто другой подхожу для подобного рода увеселений, и, может статься, он был прав. Я был наделен тем смирением, какое отличает праведников, проходящих через испытания; мало того, я был убежден, что у меня есть все способности к делу, которое мне собирались поручить, и что они непременно проявятся, если их должным образом применить, монахи же заверили меня, что подходящий случай в монастыре представится скоро. Очень уж все это было соблазнительно. И подумайте только, в словах этих достойных людей не было ни малейшего преувеличения.
Случай представился через несколько дней после того, как мне выпало на долю счастье сделаться членом их милой общины, которую вы, разумеется, успели уже оценить по заслугам. Меня попросили завести дружбу с одним молодым монахом, который происходил из знатной семьи, совсем недавно принял обет и исполнял все свои обязанности с той неукоснительной точностью, которая наводила окружающих на подозрение, что сердце его где-то далеко. Я вскоре же понял, чего от меня хотят: приказав мне завязать с ним дружбу, меня обрекали тем самым на смертельную ненависть к нему. Дружеские отношения в монастырях всегда чреваты предательством: мы следим друг за другом, подозреваем, изводим один другого – и все это делается во имя любви к Богу. Единственным преступлением, в котором подозревали юного монаха, было то, что в сердце его таится земная страсть. Как я уже сказал, он был сыном знатных родителей, которые (из страха, что он вступит в позорящий их брак, иначе говоря, женится на женщине низкого звания, которую он любил и которая могла бы сделать его счастливым в том смысле, в котором дураки – а они составляют добрую половину всего человечества – понимают счастье) принудили его стать монахом. Временами у него бывал совершенно убитый вид, временами же в глазах его вдруг загорался проблеск надежды, и монастырская община усматривала в этом зловещее предзнаменование. Что же в этом удивительного: надежда – это чужеродный цветок в монастырском саду, и она неизбежно возбуждает подозрение, ибо неизвестно, откуда она берется и для чего растет.
Спустя некоторое время в монастыре появился новый, совсем еще юный послушник. С этого дня в нашем монахе произошла разительная перемена. Он и послушник сделались неразлучны – и в этом было что-то подозрительное. Я сразу же стал к ним приглядываться. Глаз наш становится особенно зорким, когда видит чужое несчастье и когда есть надежда это несчастье усугубить. Привязанность молодого монаха к послушнику все возрастала. В саду их всегда можно было встретить вместе: они вместе вдыхали аромат цветов, вместе поливали один и тот же кустик гвоздики, гуляли всегда обнявшись, а когда пели в хоре, то голоса их сливались воедино подобно клубам дымящегося ладана. В монастырской жизни нередко случается, что дружба переходит границы обычного. Но эта дружба слишком уж походила на любовь. Например, в псалмах, которые поет хор, иногда речь заходит о любви; так вот слова эти молодой монах и послушник всякий раз обращали друг к другу, и звучали они всегда так нежно, что нетрудно было угадать, какое чувство владеет обоими. Если на одного из них накладывалось какое-нибудь, пусть даже пустяшное взыскание, то другой тотчас же старался исполнить этот урок вместо него. Если же наступал какой-нибудь праздник и кому-нибудь из них приносили в келью подарки, то они неизменно оказывались потом в келье его друга. Это кое-что значило. Я догадался, что за этим скрывается тайна, которая им обоим приносит счастье и обрекает на тягостные страдания тех, кто от нее навек отчужден. Я стал присматриваться к ним все пристальнее и был вознагражден за свои усилия: я раскрыл их тайну, и теперь мне предстояло сообщить о ней и этим упрочить свое положение в обители. Вы даже не представляете себе, как много может значить раскрыть чью-то тайну в монастыре, в особенности же когда отпущение наших собственных грехов поставлено в зависимость от того, сколько грехов мы обнаружили в других.
Однажды вечером, когда молодой монах и послушник – предмет его обожания – находились в саду, первый сорвал с дерева персик и тут же передал своему другу. Тот взял, но движения его показались мне странными: в них было что-то женственное. Молодой монах стал разрезать персик ножом; при этом нож соскользнул и слегка поцарапал его любимцу палец; надо было видеть, в какое волнение пришел монах: он тут же оторвал кусок своей рясы и перевязал им рану. Все это произошло у меня на глазах, и я сразу сделал из этого свои выводы; в тот же вечер я отправился к настоятелю. Вы легко можете себе представить, что́ за этим последовало. За молодыми людьми принялись следить – вначале с большой осторожностью: оба они были очень предусмотрительны; во всяком случае, как ни пристально я за ними следил, первое время я ничего не мог обнаружить. Самое мучительное – это когда подозрительность наша полагается на собственные догадки, как на евангельскую истину, но ей при этом никак не удается заполучить какую-нибудь улику, пусть даже самую ничтожную, чтобы поверили и другие.
Однажды ночью, когда я по указанию настоятеля стал на свой пост в коридоре (где я охотно выстаивал час за часом – и так каждую ночь, совсем один, в холоде и во мраке, рассчитывая, что мне представится случай сделать и других такими же несчастными, каким был я сам), – однажды ночью мне показалось, что я услышал в коридоре чьи-то шаги. Я уже сказал, что было темно, и я мог только услышать их легкий шелест. Кто-то пробежал мимо, до меня донеслось чье-то прерывистое трепетное дыхание. Спустя несколько мгновений я услыхал, как открылась одна из дверей, и я знал, что то была дверь в келью молодого монаха; я знал это, потому что мои долгие ночные бдения в полном мраке приучили меня отличать одну келью от другой, ибо из одной обычно доносились стоны, из другой – молитвы, из третьей – едва слышные вскрикивания во сне; слух мой был до того напряжен, что я мог сразу же с уверенностью сказать, что открылась именно та дверь, из-за которой за все это время, к моему огорчению, не донеслось ни единого звука. У меня была с собой маленькая цепочка, и я прикрепил ее к ручке этой двери и к ручке соседней так, что теперь уже нельзя было открыть изнутри ни ту ни другую. Сам же я побежал к настоятелю; до чего я гордился своим открытием, может представить себе только тот, кому случалось раскрывать монастырские тайны. Думаю, что и настоятель был тогда охвачен тем же сладостным волнением, что и я, ибо он не спал, а сидел у себя в келье вместе с теми четырьмя монахами, которых вы помните. (При воспоминании о них я содрогнулся).