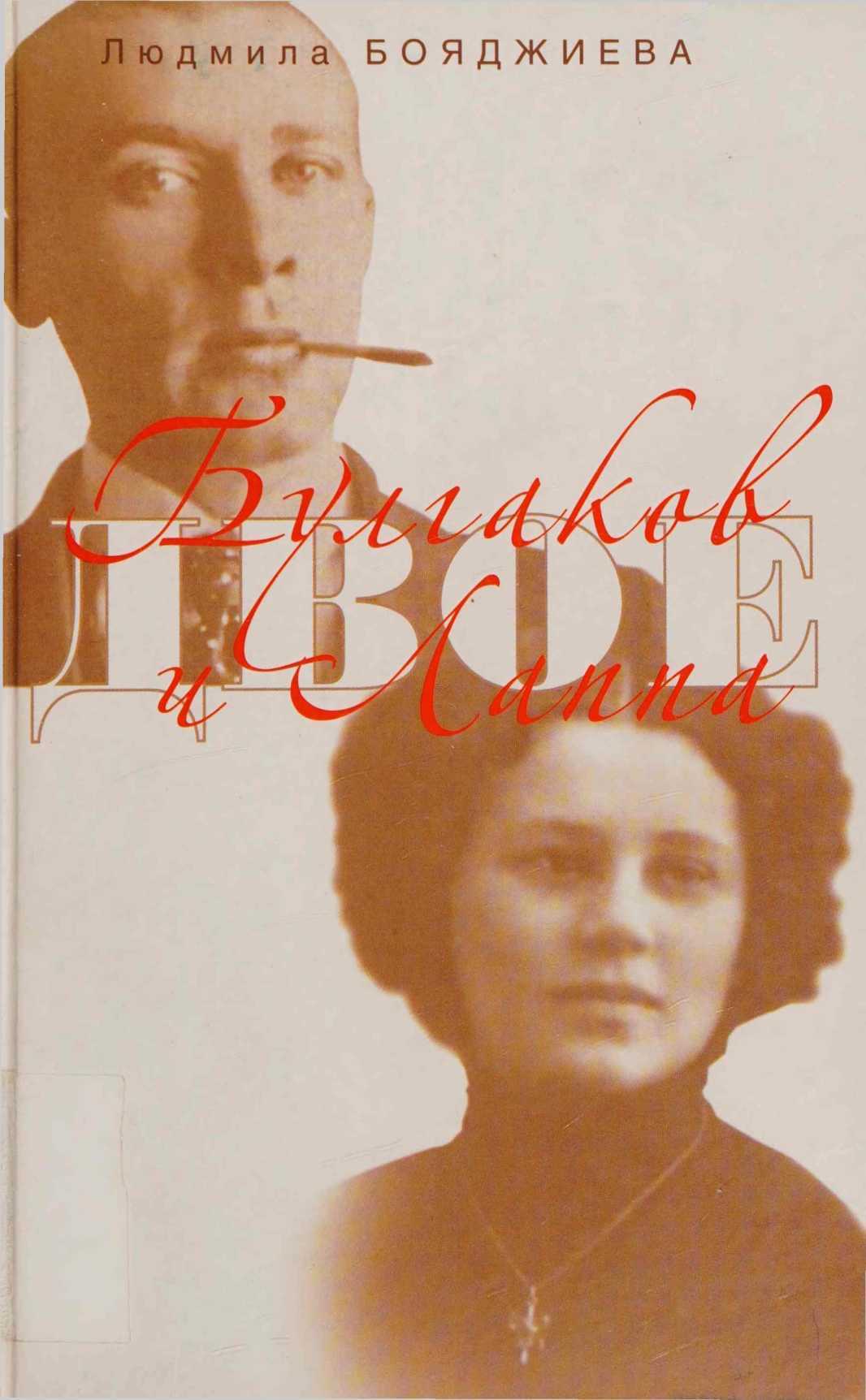боролись две силы: одна из них – неукротимая жажда жизни, которая попросту не отпускала его в иной мир; другая – разрушительная сила, убивавшая изнутри мастера.
Один и тот же вопрос терзал меня, да так, что я каждую ночь просыпался по нескольку раз, хотя обычно меня из пушки не разбудишь: что случилось с Мастером в ту седьмую ночь? Что вызвало такую невероятную вспышку ярости? Кто-то что-то сказал? Или сделал? Но кто? Не связана ли эта страшная перемена в самочувствии Булгакова с его племянником Сергеем Шиловским, который, хотя усердно и с готовностью выполнял все свои обязанности по отношению к отчиму, все же, казалось, искал любого повода улизнуть из квартиры больного? Или, может, Булгакова задела за живое ссора с каким-нибудь издателем или чиновником? Или он узнал дурную весть? Или… или причины ужасной перемены гораздо более зловещи? Но эту возможность я не осмеливался допустить даже в воображении.
Однажды, спустя два или три дня после ухудшения самочувствия, я, прибыв поутру к Булгакову, и увидел в прихожей, как Попов что-то шептал Елене Сергеевне и пытался всучить Насте деньги. Возможно, в этом не было ничего предосудительного – например, он просто посылал ее за покупками лекарств. Я бы и не заметил, если бы не довольно неуклюжая попытка Насти скрыть это обстоятельство. Мелькнула мысль: а вдруг они хотели утаить от меня нечто такое, что имеет отношение к болезни Булгакова? Но я тут же сказал себе, что пытаюсь оправдать собственное врачебное бессилие.
Конечно же я донимал расспросами всех, кто навещал Булгакова в течение последних дней, – но безрезультатно. Попов рассказал мне, что в тот день он оставался с Булгаковом до позднего вечера, когда остальные посетители давно разошлись. В половине девятого пришел его пасынок Сергей Шиловский и сказал, что отец с братом ждут его уже несколько часов и не садится ужинать. По заверениям, Булгаков на момент его ухода находился в самом прекрасном расположении духа. Другие поведали мне и того меньше, включая Сергея Шкловского, который ушел из квартиры в полдень седьмого дня и вернулся лишь на следующее утро, довольно поздно, когда последствия ночного беспорядка были уже убраны. Сергей Шиловский явно был потрясен, увидев отчима в столь удручающем состоянии, но уверял, что понятия не имеет о причинах ночных бдений Булгакова.
От самого Булгакова я так ничего и не добился. На следующий день после ухудшения состояния в течение нескольких часов он находился в ясном сознании и был весьма общителен, – но ничего не мог вспомнить о злополучной ночи. Мне пришлось снова подступить с расспросами к служанке, которая, кстати сказать, с того самого дня выполняла свои обязанности с решимостью и рвением, каких прежде за ней не наблюдалось.
Настя немного смогла – или захотела? – добавить к своему рассказу. Мастер отправился в постель около девяти часов, выпив чашку теплого миндального молока. Он пожаловался на «несъедобный» ужин, поданный несколькими часами ранее, и потребовал, чтобы Настя назвала ему имя того, кто готовил бульон. Затем сказал, что, поскольку ему стало лучше, Настя должна быть умеренней в расходах и есть жареное мясо не чаще двух раз в неделю. Об этом она доложила мне со всеми подробностями. Был, однако же, один вопрос, на который я не получил прямого ответа:
– В тот вечер ты не оставляла Мастера одного?
– Нет, товарищ доктор. То есть только когда занималась своими делами. Вы же понимаете, Николай Александрович, я не могу неотлучно находиться при нем и в то же время убираться на кухне.
Затравленно глядя на меня, словно голодная собачонка, которую я по злобе пнул ногой, Настя потупила взгляд и вытерла костлявые руки о засаленный передник. Я понял, что дальнейшие расспросы бессмысленны, и решил дождаться случая и приватно побеседовать с Поповом. Я чувствовал, что ему может быть известно кое-что важное для меня, но, как человек по природе своей скрытный, он не станет говорить со мной при других. Существовало лишь три темы, на которые Попов позволял себе пространно и громогласно высказываться: о литературе, коммунистической морали и политике партии и правительства.
За первые недели визитов к Булгакову я привык к тому, что в его комнате постоянно толкались люди. Многие из них, казалось, чуть ли не поселились там. Я осматривал пациента, давал распоряжения прислуге или разъяснял Попову те или иные изменения в курсе лечения, а посетители молча наблюдали за моими прозаическими действиями. В иные дни, особенно когда Булгаков был совсем плох, они предавались беседам. Говорили, как правило, почтительно-приглушенными голосами: большей частью речь шла о литературе, поскольку почти все они были литераторами, критиками – профессионалами или любителями. Или же перебирали городские сплетни, обсуждали ход начавшихся боевых действий в Финляндии, либо перемены в политической жизни, считая их неизбежными.
– Трудовой граф Алексей Толстой опять строил из себя шута, – сказал однажды Павел Попов, вбегая в комнату и бросая в ноги Булгакову номер «Литературной газеты».
Булгаков в это время крепко спал после лекарства, которое я дал ему в надежде уменьшить невыносимые боли в пояснице. В комнате находились Попов, Люстерник (он недавно приехал из Швейцарии и работал на Центральном радио, вещавшим на французском и немецком языках, в СССР его привела любовь к русскому языку и Тургенев, вернее – его произведения), Были здесь Сергей Шиловский и еще два человека, которых я прежде встречал у Булгакова только один-два раза.
– …Этот осёл уже имеет наглость указывать, какая литература должна выходить из-под пера писателей, а какая – нет, – продолжал Попов. – Придёт ли этому конец?
Сергей Шиловский сидел у постели Мака на стуле с высокой прямой спинкой и читал. Он захлопнул книгу, встал и подошел к Попову, который глядел в окно на снегопад.
– Но ведь вы отрицаете все формы цензуры, Павел Сергеевич? – спросил Сергей Шиловский.
– Именно отрицаю – все, черт побери! – парировал тот. – Не вижу им ни малейшего оправдания. Москва всегда была городом свободной мысли – пока не началась вся эта революционная возня. Уже стало нечем дышать – и всё оттого, что власть придержащие ночей не спят, только бы удушить тотальным контролем жизнь подданных…
В такие минуты я не мог налюбоваться Шиловским. Этот молодой человек был по-своему красив: среднего роста, воспитанный – он напоминал талантливого, но юного аспиранта. Полная противоположность Попову, всегда очень сдержанного в своем поведении и движениях, говорившего мягко, вполголоса. Сергей двигался с изяществом дикого зверя, а каждое слово подкреплял порывистым жестом: поначалу это был лишь взмах руки, но волны от него мгновенно разбегались