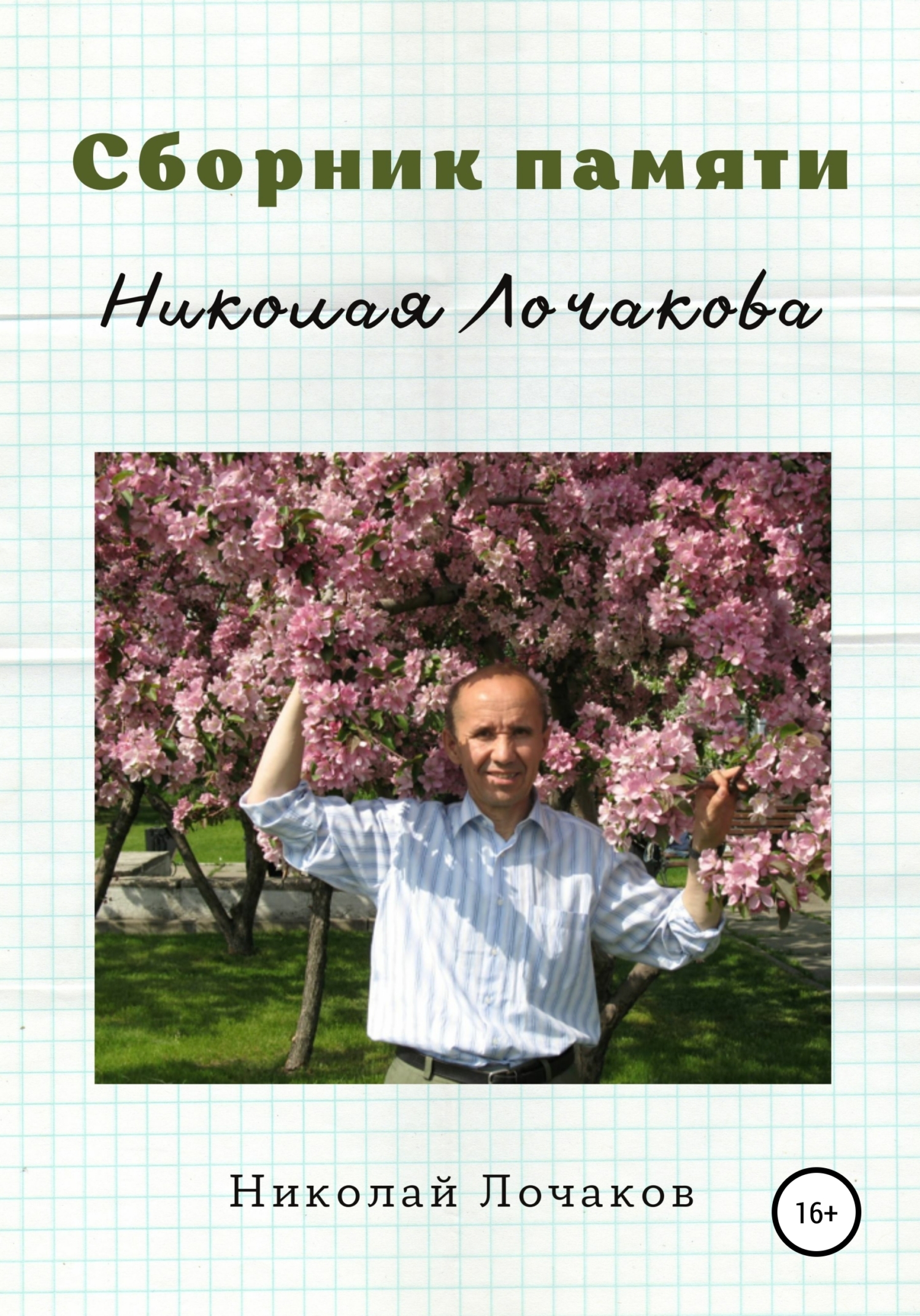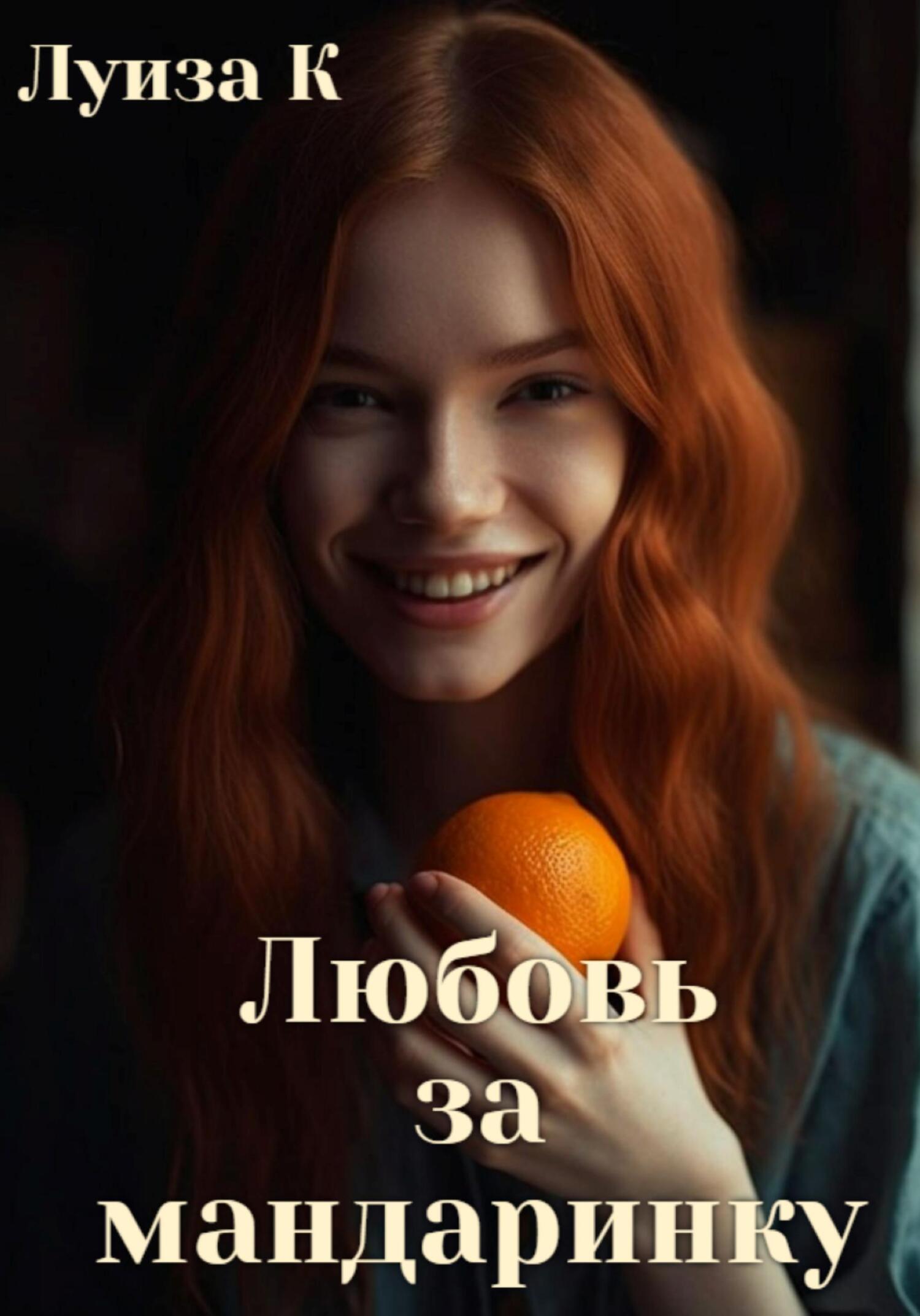библиотекарей, где его закладки. Мне было приятно. Но потом все как-то успокоилось, и он опять уселся в своем углу, погрузившись в чтение. Я тоже делал свое дело: дописывал последние строчки.
И вот я наконец-то освободился от Генри Дэя!
Я сложил рукопись в картонную коробку, сверху добавил несколько своих старых рисунков, засунул письмо Крапинки в карман и сказал последнее «прощай» столь дорогому для меня месту.
Не знаю, как это получилось, но, когда я вылез наружу, я столкнулся с ним лицом к лицу. Он стоял и смотрел на меня. Как он оказался на заднем дворе? Может, проснулись старые инстинкты? Я бросился в сторону, промчался сквозь кусты, пересек несколько улиц, и только оказавшись в лесу, спросил себя, зачем я убежал? Ведь я же сам хотел с ним встретиться. Все они, инстинкты…
Глава 35
Берлиоз как-то сказал про орган: «Дышащее чудовище», и я всегда считал это метафорой, но оказалось, что нет. Когда я играю на нем, мы буквально сливаемся воедино. Я уже несколько лет пишу эту проклятую симфонию, и мне кажется, если бы я ее закончил, мне не пришлось бы объяснять Тесс, кто я такой на самом деле. Она бы поняла меня, поняла и простила. Только бы мне написать ее… Я закрывался в студии и играл. Играл часами, днями и даже ночами, надеясь, что вот сейчас придет вдохновение, и я создам гениальное произведение, которое потрясет мир.
Когда Эдвард закончил первый класс, Тесс уехала с ним в гости к своей кузине Пенни, чтобы дать мне возможность погрузиться в творчество с головой. И у меня все стало получаться. Симфония почти готова. Я купался в звуках, представляя, как мне станут рукоплескать лучшие концертные залы мира. В моей музыке было все: и вековое ожидание, и ужас от соприкосновения с этим миром, и неожиданно обрушившаяся на меня любовь, и счастье; две мои жизни слились в одну в этой симфонии. Мир будет потрясен моим творением!
В пять часов вечера я решил выпить пива. Потом приму душ и еще поработаю, отшлифую все, как надо.
В спальне на кровати лежало платье Тесс… Как жаль, что ее нет сейчас рядом, и она не может разделить со мной эту безмерную радость. Я залез под горячую струю… И тут что-то грохнуло внизу. Я завернулся в полотенце и пошел посмотреть, что там произошло. Окно было не заперто, и, видимо, его вынесло порывом ветра, стекло разбилось. На полу валялись бесчисленные осколки, а на столике, где лежала моя рукопись, их не было. И рукописи тоже не было. Только под окном валялся на траве оброненный кем-то листок с моими нотами.
Это не ветер. Это они! Зачем им мои ноты? И как теперь я докажу Тесс, что все-таки написал симфонию? Я в бешенстве принялся прыгать по комнате, но тут же порезал ступню и стал орать, уже не знаю, от чего — от боли или от негодования. Тут наверху раздался звон еще одного разбитого стекла. Я бросился туда, пачкая кровью ковролин на лестнице. Окно в детской тоже зияло дырой. Я опустился на кровать и обхватил руками голову. Что происходит?!
Неужели они решили покончить со мной? Это не по правилам. Так нельзя.
Я вытер пятна на полу, собрал осколки стекла и снова залез в душ. Вода смешивалась с кровью, сочившейся из порезов. Так нельзя. Это не по правилам, парни.
Когда я вышел из душа, то увидел на запотевшем стекле коряво выведенную надпись: «Мы все про тебя знаем». А ниже ноты — первые такты моей симфонии.
Маленькие паршивцы! Это уже не лезло ни в какие ворота.
Кое-как дождавшись рассвета, я поехал к маме. Постучал в дверь. Мне никто не ответил. «Наверное, она еще спит», — подумал я и, подойдя к окну, заглянул внутрь. Мама оказалась в кухне. Она помахала мне рукой и показала на дверь, а когда я, прихрамывая, вошел, спросила:
— Забыл, что у нас всегда открыто? Что это ты вдруг? Посреди недели?
— Да вот захотелось обнять самую прекрасную женщину на свете.
— Ты такой обаятельный врун. Хочешь кофе? Или, может, поджарить парочку яиц?
Она засуетилась у плиты, а я присел за кухонный стол. На его поверхности виднелись многочисленные следы от некогда стоявших на нем кастрюль и сковородок, она была изрезана ножами, а кое-где проступали оттиснутые ручкой буквы — фрагменты написанных здесь же писем. Утренний свет пробудил во мне воспоминания о нашем первом совместном завтраке.
Извини, что не сразу открыла, — сказала мама. — Я говорила по телефону с Чарли, он уехал в Филадельфию, обрубает концы. У тебя все нормально?
Был большой соблазн рассказать ей все, начиная с той ночи, как мы украли ее сына, потом поведать о маленьком немецком мальчике, которого точно так же украли сто с лишним лет назад, и закончить похищенной партитурой, но я не стал этого делать. Тесс могла бы понять меня, но материнское сердце вся эта история разорвала бы на клочки. Но мне жизненно необходимо было хоть с кем-нибудь поделиться своими мыслями и признаться в тех грехах, которые я собирался совершить.
— В последнее время чувствую себя неважно. Как будто вижу дурной сон и не могу проснуться.
— Обычно такое бывает от нечистой совести.
— Или от нечистой силы.
— Когда ты был совсем маленьким, помнишь, я каждый вечер перед сном пела тебе колыбельные? Иногда ты пытался мне подпевать, но у тебя полностью отсутствовал музыкальный слух — тебе словно медведь на ухо наступил, ты не мог повторить ни одной мелодии. А потом тебя будто подменили в ту ночь, когда ты убежал из дома.
— Да-да, меня украли лесные человечки.
— Что за чушь! Какие еще лесные человечки? Все проблемы у тебя внутри, Генри. В твоей голове, — она погладила меня по руке. — Материнское сердце не обманешь, мать всегда узнает свое дитя.
— Я был хорошим сыном, мам?
— Генри, — она дотронулась ладонью до моей щеки, одним движением возвращая меня в детство, и даже украденная партитура показалась мне в этот миг ничего не значащей чепухой. — Ты такой, какой ты есть. Мы сами мучаем себя, и чудовища, если они и есть, они внутри нас, а вовсе не в лесу, — она улыбнулась, — ну какие там еще «лесные человечки»? Придумаешь тоже… Выкинь из головы эти глупости.
Я поднялся, собираясь уйти, но перед этим наклонился и поцеловал ее. Она была добра ко мне все эти годы, так, словно я был