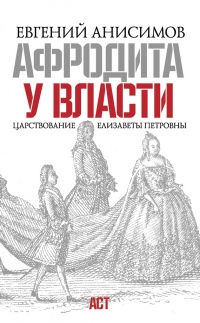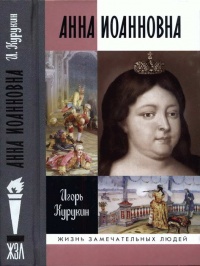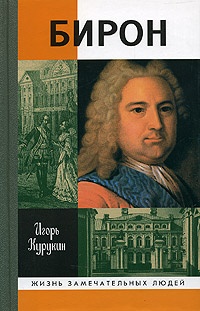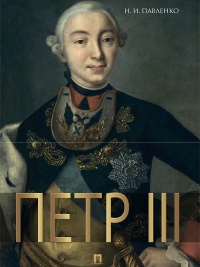Елизавета и раздраженные новыми порядками гренадеры быстро нашли общий язык — недовольство казармы обрело формального вождя. Иных сведений о заговоре у современников нет, если не считать известия Манштейна о намерении Елизаветы обратиться к войскам с речью о своем праве на трон во время крещенского парада 1742 года, что с точки зрения тактики совершения переворота было по меньшей мере неразумно431.
Кое-какую информацию можно извлечь из пропагандистских сочинений начала царствования Елизаветы, созданных с целью оправдать совершённый ею захват власти. Имеются в виду «Краткая реляция» (якобы разосланная русским послам записка с описанием переворота, которую они должны были неофициально пересказывать со ссылкой на полученное из Петербурга частное письмо) и проповеди на ту же тему, предназначенные для формирования общественного мнения внутри страны. Тенденциозность этих явно заказных сочинений очевидна, но тем интереснее встретить в них «технические» подробности самого переворота, неизвестные по иным источникам.
Так, и «Краткая реляция», и анонимное, но явно составленное неким духовным лицом «Историческое описание о восшествии на престол Елисаветы Петровны», несмотря на все усилия представить ее действия вынужденными, проговариваются, что контакты гренадеров во главе с Грюнштейном и цесаревны начались задолго до самого переворота. Упоминается и договоренность, согласно которой переворот должен был произойти в период, когда наступит черед нести караулы во дворце самим заговорщикам-преображенцам432. Подобный план имел более реальные шансы на успех, чем театральная задумка обращения Елизаветы к войскам на параде. Однако события пришлось ускорить из-за непредвиденных обстоятельств.
В литературе не раз отмечалось, что Анна Леопольдовна получала предупреждения о готовившемся перевороте из разных источников, но не придавала им значения433. Впоследствии на допросах Остерман и Левенвольде сообщили, какими сведениями располагало правительство за несколько дней до событий. Главной «уликой» Остерман назвал переданную ему еще весной информацию Финча, которая была доведена до сведения Кабинета министров и самой правительницы. Другими «престорогами» Остерман назвал полученное им 20 ноября года письмо своего агента Совплана из Брюсселя и сообщение посла А. Г. Головкина из Гааги, также переданные Анне. С письмом Совплана Остерман посылал к правительнице Рейнгольда Левенвольде; но Анна Леопольдовна, прочитав его, заявила, что ее обер-гофмаршал, наверное, сошел с ума434. Позднее немецкий ученый Бюшинг записал в Петербурге историю о том, что принцесса признавала права Елизаветы на престол и якобы, споткнувшись перед ней во дворце, заявила своим дамам: «Мне, конечно, должно будет уничижиться перед великою княжною»435. Но такие легенды слишком часто возникали задним числом, а реальная Анна Леопольдовна, кажется, не слишком волновалась по поводу своего положения.
Все названные документы, как и письмо графа Линара, были посвящены преимущественно интригам Шетарди и шведского правительства и их контактам с Елизаветой. Но об этом при дворе и так давно знали — принц Антон еще в июне рассказывал Финчу о ночных визитах к цесаревне переодетого Шетарди и о его контактах с Лестоком. 17 октября 1741 года Анна Леопольдовна собственноручно написала Линару: «Ожидаю Вашего возвращения с тем большим нетерпением, что мне хочется услышать суждение Ваше о некоторых вещах, которые сильно изменились наружно с Вашего отъезда. К нам сюда явился какой-то человек из Франции, предпринявший эту прогулку единственно ради того, чтобы нанести визит г-ну Шетарди, как утверждает он сам. Хорош предлог! И весьма достоверен. За всё время своего здесь пребывания он ни разу не показался при дворе, но всякий день наведывался к Щринцессе] Ели [завете], а также к Шетарди. До сих пор нам неведомо, какова была цель поездки сего визитера. Мне дают столько советов, что я уж и не знаю, кому верить: порой было бы лутше и не знать всего, ибо половина наверняка ложь, никогда в жизни не было у меня столько друзей, или именующихся ими, как с тех пор, как я регентство приняла. Щастлива бы я была, коли всегда могла отличить истинных от ложных! Напишите мне, что Вы думаете о манифесте шведском. Берегите здоровье Ваше и любите меня по-прежнему, иного я и не желаю»436.
Именно об этих обстоятельствах и беседовала с Елизаветой правительница во время куртага в понедельник 23 ноября 1741 года. Таинственным визитером, возможно, был некий Давен, прибывший в Россию просить руки Елизаветы для французского принца Луи Франсуа де Конто, но так и не рискнувший обратиться лично к принцессе. Как со слов Лестока описал этот разговор Шетарди, Анна якобы просила Елизавету не принимать посла, а та смиренно предлагала через Остермана указать на это самому дипломату. В «Краткой реляции» дочь Петра Великого выглядит чуть ли не жертвой происков соперницы; обуреваемая неправедной «ненавистью и злобою» правительница, сама стремившаяся стать императрицей, якобы обвинила цесаревну: «Что это, матушка, слышала я, что ваше высочество корреспонденцию имеете с армиею неприятельскою и будто вашего высочества доктор ездит ко французскому посланнику и с ним вымышленные факции в той же силе делает», — на что Елизавета конечно же с негодованием заявила, что у нее «никаких алианцов и корреспонденции» с противником нет и в помине, а если доктор Лесток зачем-то встречался с Шетарди, то она о том его спросит. После этого разговор перешел во взаимные упреки и дамы расстались недовольные друг другом. По данным брауншвейгских дипломатов, таких бесед было две (15 и 23 ноября), но они опять же касались только Шетарди и Лестока. Саксонский резидент Пецольд 24 ноября сообщил в Дрезден, что правительница предъявила Елизавете упоминавшееся выше «письмо из Бреславля»437.
Спустя почти 300 лет невинность цесаревны выглядит не такой уж очевидной, но как бы ни был неприятен Елизавете разговор, состоявшийся тем осенним днем 1741 года, трудно было предъявить ей конкретные обвинения. Шведского посла уже давно не было в России, и все упреки в контактах с представителями враждебной державы она могла решительно отвергать; визиты Шетарди продолжались уже целый год и никаких последствий не имели. Никаких «сигналов» на офицеров-заговорщиков не было. В 1741 году у Тайной канцелярии вообще было немного работы — большей частью по делам о ложном произнесении «слова и дела». Информацией же о «солдатских» связях Елизаветы ни правительница, ни Остерман не располагали — во время последней встречи принцесс-соперниц о них не было и речи.
И всё же Анне стоило бы насторожиться и лично «разведывать дела» соперницы, ибо, как писал Бальтазар Грасиан, «в иных одно простосердечие, а в прочих предосторожность надобна». Но она предпочла остаться «простосердечной». Елизавету же эта беседа, должно быть, подтолкнула к немедленным действиям. Может, ей и удалось убедить правительницу в своей невиновности (та даже якобы послала к Остерману человека — передать, что Елизавета «ничего не изволит ведать»), но Лестоку грозил арест. Опыта конспирации у гренадеров не было, а Елизавету поддерживала далеко не вся гвардия — у нас нет данных о выступлениях в ее пользу в рядах измайловцев и конногвардейцев. (Кстати, в ночь переворота цесаревна отправилась из своего Смольного дворца на полковой двор пре-ображенцев, хотя рядом с ее резиденцией находились казармы Конной гвардии438.) Дела Тайной канцелярии показывают, что не все служивые из других привилегированных частей одобряли совершённый преображенцами переворот. «Честь себе заслужили тем, что пришед в ношное время во дворец и напали на сонных с ее императорским величеством», — осуждал их семеновский гренадер Алексей Павлов, а его сослуживец Максим Судаков называл героев переворота «бунтовщиками и стрельцами»439.