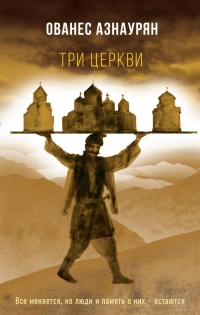– Как они молоды! – тихо сказала Луиза. – Совсем еще мальчики.
– Им повезло, – сказал я. – Война их еще не пожрала. Война не пожирает трупы, она ест только живых. Она пожирает ноги, руки, глаза живых, чаще всего, когда те спят, так же делают и крысы. Люди лучше воспитаны и никогда не едят живых. Они предпочитают, кто знает почему, поедать трупы. Может, потому, что очень непросто съесть человека живого, даже когда он спит. Я видел в Смоленске, как русские пленные ели трупы своих умерших от голода и холода товарищей. Немецкие солдаты молча смотрели на них с видом самым воспитанным и уважительным. Немцы полны гуманности, не правда ли? Не их вина, что им нечего было дать пленным, и потому они смотрели, качали головой и говорили: «Аrme Leute, бедные люди». Немцы – самый сентиментальный и самый цивилизованный народ на свете. Немецкий народ не питается трупами. Цивилизованный народ трупов не ест. Он поедает людей живых.
– Прошу вас, без жестокостей, не говорите таких ужасов, – сказала Луиза и положила мне руку на плечо. Я чувствовал, она дрожит, а меня неожиданно охватило сострадание и гнев.
– Был страшный холод, – продолжал я, – меня стало рвать. Было стыдно показать немцам свою слабость. Немцы с презрением, как на тряпку, смотрели на меня. Я покраснел, я хотел просить прощения за минутную слабость, но рвота не давала мне говорить.
Луиза молчала, я чувствовал, ее рука дрожит на моем плече. Она закрыла глаза, казалось, она не дышит. Потом сказала, дрожа и не открывая глаз:
– Иногда я спрашиваю себя, нет ли вины и моей семьи в том, что происходит сегодня? Как вы думаете, на нас, Гогенцоллернах, тоже лежит часть вины?
– А на ком ее нет? Я не Гогенцоллерн, но я тоже иногда думаю, что часть вины за все происходящее сейчас в Европе лежит на мне.
– Parfois je me demande si je suis obligée, en tant que femme allemande, d’aimer le peuple allemand. Une Hohenzollern doit aimer le peuple аllemand, n’est-ce pas?[226]
– Vous n’êtes pas obligée de l’aimer. Mais les Allemands sont très gentils quand même[227].
– Oh! oui, ils sont très gentils[228], – сказала Ильзе и улыбнулась.
– Хотите, я расскажу вам историю про стеклянный глаз?
– Я не хочу слушать жестоких историй, – сказала Луиза.
– Это не жестокая, а скорее сентиментальная история, типично немецкая.
– Говорите тише, – сказала Луиза, – слепые могут услышать.
– Вы думаете, в мире есть кто-то добрее, чем слепой? Если и есть кто-то добрый в этом мире, то это человек со стеклянным глазом. Но прошлой зимой в Польше я встречал людей еще добрее, чем слепцы или люди со стеклянным глазом. Будучи в Варшаве проездом со Смоленского фронта, я сидел в кафе «Европейское» страшно усталый, тогда тошнота не давала мне спать. Ночами я просыпался от сильных болей в желудке, мне казалось, что я проглотил зверя и он пожирает мои внутренности. Будто съев часть живого человека, я часами таращился в темноту. Таким я сидел в кафе «Европейское» в Варшаве. Оркестр играл старые польские мелодии и венские песни. За соседним столиком сидели немецкие солдаты с двумя медсестрами. В кафе – обычная публика, блестящая и нищая, полная достоинства и шляхетской меланхолии, какую можно встретить в публичных заведениях польских городов в годы нищеты и рабства. Повидавшие горе мужчины и женщины молча сидели, слушали музыку или тихо переговаривались между собой. На всех поношенная одежда, выцветшее белье, обувь со сбитыми каблуками. И тем не менее в манерах поляков было благородство, в нем, как в потускневшем зеркале, самые обыденные жесты отражались с изяществом, присущим польской знати былых времен. Но милее выглядели женщины, полные grandeur, величия, простые и горделивые, несущие на своих лицах бледность недоедания. Они устало улыбались, и все же не было и тени настороженности, смирения, жалости или униженности в усталых улыбках их страдательных губ. Глаза глубокие и ясные, даже яростные, как у раненой птицы, как у птицы плененной, как у белых чаек на фоне темного морского неба, устало летящих в преддверии бури, когда их крики вплетаются в шум ветра и грохот волн. Немецкие солдаты за соседним столом сидели с вытаращенными глазами и неподвижными лицами. В середине неподвижных глаз я видел странным образом расширяющиеся и сужающиеся зрачки. Потом я заметил, что их глаза не моргали. Но слепыми они не были: одни читали газеты, другие внимательно разглядывали музыкантов оркестра, входящую и выходящую публику, суетящихся между столиками официантов или сквозь большое запотевшее оконное стекло смотрели на бесконечную пустынную площадь Пилсудского. Вдруг я с ужасом заметил: у них нет век. Несколько дней назад, возвращаясь из-под Смоленска, я уже видел под сводами минского вокзала нескольких солдат без век. Из-за страшных морозов той зимы встречались самые необычные случаи. Тысячи и тысячи солдат теряли конечности, у тысяч и тысяч из них отпадали отмороженные уши, носы, пальцы, детородные члены. У многих выпадали волосы. Можно было встретить солдат, у которых волосы выпали за одну ночь, у других они выпадали пучками, как у больных паршой. Многие теряли веки. Сожженное морозом веко отпадает, как отмершая кожа. Я с ужасом смотрел в глаза несчастным солдатам, сидящим в кафе «Европейское», в их расширяющиеся и сужающиеся посередине выпученных, неподвижных глаз зрачки, безуспешно пытающиеся избежать прямых ударов света. Я представил себе, как бедняги спали с распахнутыми в темноту глазами, наверное, их веками была сама ночь. Они переживали день, шагая с неподвижными вытаращенными глазами навстречу ночи, под солнцем они ждали, когда ночная тень опустится на их глаза, как веко; их судьбой становилось безумие, только безумие могло бы принести хоть немного тени их лишенным век глазам.
– О, хватит! – почти прокричала Луиза. Она смотрела на меня широко распахнутыми и странно побелевшими глазами.
– Vous ne trouvez pas que tout cela est gentil, très gentil?[229]– сказал я, улыбаясь.
– Taisez-vous, – пробормотала Луиза. Закрыв глаза, она тяжело дышала.
– Позвольте мне рассказать вам историю про стеклянный глаз.
– Vous n’avez pas le droit de me faire souffrir[230], – сказала Луиза.
– Ce n’est qu’une histoire chrétienne, Louise. N’êtes vous pas une Princesse de la maison impériale d’Allemagne, une Hohenzollern, n’êtes vous pas ce qu’on appelle encore une jeune fille de bonne famille? Pоur quelle raison ne devrais-je pas vous raconter des histoires chrétiennes?[231]