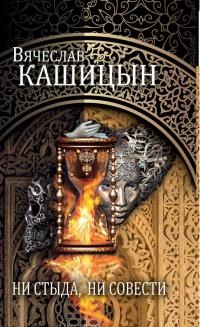— Он жалеет о том, что сделал, как ты думаешь?
— Не знаю. Мы об этом вообще-то не особенно говорили. Сложно, тем более по телефону. Но вроде как должен жалеть, тебе не кажется?
Да, должен.
— Ты мог бы и спросить. Говорить не запрещено, знаешь, ты имеешь право задавать вопросы.
Не задавай вопросы, на которые не хочешь получить ответ. Еще и это.
— Может быть, но меня это не слишком интересует. Он всерьез облажался, и я как-то не настроен на прощение.
— Наверное, я тоже.
И это тоже более-менее правда. Удачный выброс гнева, упакованного, оформленного и ощутимого, рассекающего атмосферу, чтобы взорваться достаточно далеко для того, чтобы уже никому внизу не навредить, — это совсем не то же самое, что прощение. Как и ненависть, прощение требует определенных вложений и постоянного догляда.
Даже безразличие кажется легким и простым, незначительным, но это не так.
Вздох кажется подходящей реакцией, звуком, подходящим для безразличия. Джейми, разумеется, понимает ее неверно. Хмурится.
— Ты устала, мам? Я совсем не хочу тебя выматывать. Тебе ведь нужно сил набираться.
— Нет, все хорошо. Я так рада, что ты здесь.
— Нужно было тебе раньше сказать?
— Да нет, наверное. Как раз вовремя. У меня сейчас более подходящее настроение, чем раньше.
Неясная темная стена придвигается все ближе с каждой секундой, и что произойдет при столкновении? Аликс упакует свои умиротворенные платья и станет посещать тюрьму в часы свиданий, так Айла предполагает, а Джейми устремится в школу. Мэдилейн уцепится за Берта, Лайл поскорбит и двинется дальше. Более закаленный и, конечно же, более усталый, но ему не привыкать.
А Джеймс тем временем устроится поудобнее в своем шезлонге у Скалистых гор, пригубит скотч и скажет: «Жаль, очень жаль». И возможно, подумает: «Нужно было мне верить, нужно было сохранять верность, нужно было оставаться на моей стороне, несмотря ни на что».
Если бы она так и сделала, все было бы совсем иначе. Для начала, она не покупала бы мороженое с Лайлом, и вздыхала бы она совершенно по-другому, не говоря о том, что по иной причине. К этому времени ее окончательно измучили бы презрение и отвращение.
Вместо этого у нее была совсем другая жизнь: они обнимались и ругались с Лайлом, выбирали и распределяли по местам книги, цветы, полотенца, стирали и мыли посуду, готовили и ели, сидя друг напротив друга за кухонным столом, сворачивались клубочком на диванах и кроватях или у камина, врозь или вместе, пололи сад, стригли газоны, приносили дрова, выносили мусор, и все такое, снова и снова.
А потом она легко шагнула с крыльца, ее не предупредили. Она даже смеялась, когда залезала в грузовик, и Лайл тоже. Почему они не подумали, как здорово было бы усесться на собственной потрясающей веранде, задрав ноги на свои собственные перила, глядя на свою собственную землю в тени, поедая свое собственное мороженое в сумерках и утешаясь надеждой, что в ближайшие тридцать лет все будет примерно так же?
Вот до какого места нужно перемотать события, именно до этого. Не раньше.
— Спасибо, — говорит она Джейми с таким чувством, что он теряется, недоумевая, за что ему так благодарны.
— Мне даже как-то легче стало, что все в порядке.
— Я знаю. Так и есть.
— Тогда, — и он встает, — я пойду. Может, когда мы в следующий раз увидимся, у меня уже будет расписание занятий. Или экзаменов. Что-нибудь определенное, в любом случае.
Он склоняется, как Мэдилейн, как Аликс, ненадолго прижимает губы к ее лбу. Закрыв глаза, она старается запомнить это ощущение.
— Все будет хорошо, мам. Ты поправишься, не волнуйся.
И он уходит.
Каждый приходит со своим подарком. Как на день рождения: большие сюрпризы и что-то яркое, ценное.
Например, надежда, что жизни ее детей спасены. Иногда у них что-то будет не получаться, что-то будет разбивать им сердце, но они должны были получить иммунитет против своих внутренних, самых тяжелых, глубоко укоренившихся болезней. Избавившись от самого опасного, они теперь будут настороже, будут острее прочих чувствовать, какие ошибки могут совершить, какие потрясения могут их ждать. Знать это — уже немало.
Если, если она получит обратно свое тело, если у нее будет эта возможность, слишком головокружительная, чтобы на нее рассчитывать, такая яркая, что она жмурится, представляя ее, но если — ей нужно постараться запомнить это остроту, сгущенность, особую силу ощущений. Таких, как от губ Аликс, губ Джейми, руки Мэдилейн. Потому что это легко забыть; так же как она забывает, как это чувствовать под ногами пол, как просто, сами собой сгибаются внутрь ее запястья, когда она пишет список, выдергивает сорняк из клумбы, прикасается к руке или бедру, — все это теперь стало туманным и теоретическим.
И замечательным. Представить только, что можешь все это сделать!
Представить себе кожу. Внутренние органы, кости, мышцы и нервы могут пребывать в более плачевном состоянии, и, наверное, о них нужно больше беспокоиться, но кожа кажется самым большим чудом и поэтому — самой большой потерей. Что делать, если не можешь дотронуться и не чувствуешь, как дотрагиваются до тебя?
Вот кожа Лайла, грубая, щетинистая и встревоженная, вот его ладони и кончики пальцев касаются ее волос, ее лба, лаская и успокаивая, вот эти узкие губы, а за ними спрятан утешающий язык. Но она не может точно вспомнить его кожу. Она потеряла и забыла свои нервные окончания и глубокие, прерывистые страстные вздохи.
— Привет, — говорит он. — Быстро все, да? Тебе страшно?
Остальные приходят со всевозможными ответами, уверениями, просьбами, оценками и обещаниями; Лайл приносит вопросы. Он знает, что нужно вслух задать правильный вопрос, это — часть его кожи.
Страшно? Еще как: целый фейерверк ужаса, минные поля страха, напряженный хаос. Или напряжение — слишком мягкое слово, оно применимо только к дешевому кино и минутным убыстрениям пульса? Нет, напряжение — это чистый сухой лед незнания. От него сердце останавливается.
— Я в ужасе. И даже не знаю, на что надеяться.
— Ну это очевидно, ты так не считаешь? Потому что с жизнью можно что-то сделать. Пока ты жива, мы сможем что-нибудь придумать.
Не только правильный вопрос, но и правильный ответ. Но неужели он не боится таких серьезных обещаний?
— А ты как?
— Страшно ли мне? Господи, конечно, я в камень превратился в ту секунду, когда услышал выстрел. По-моему, после этого не было ни мгновения, когда мне не было страшно. Даже во сне. Даже сны мне снятся страшные.
Они так мало времени проводили вместе, вдвоем, и большая его часть ушла скорее на мужество, чем на откровенность. Он привык действовать, исправлять, делать что-то, что изменяет любые обстоятельства.