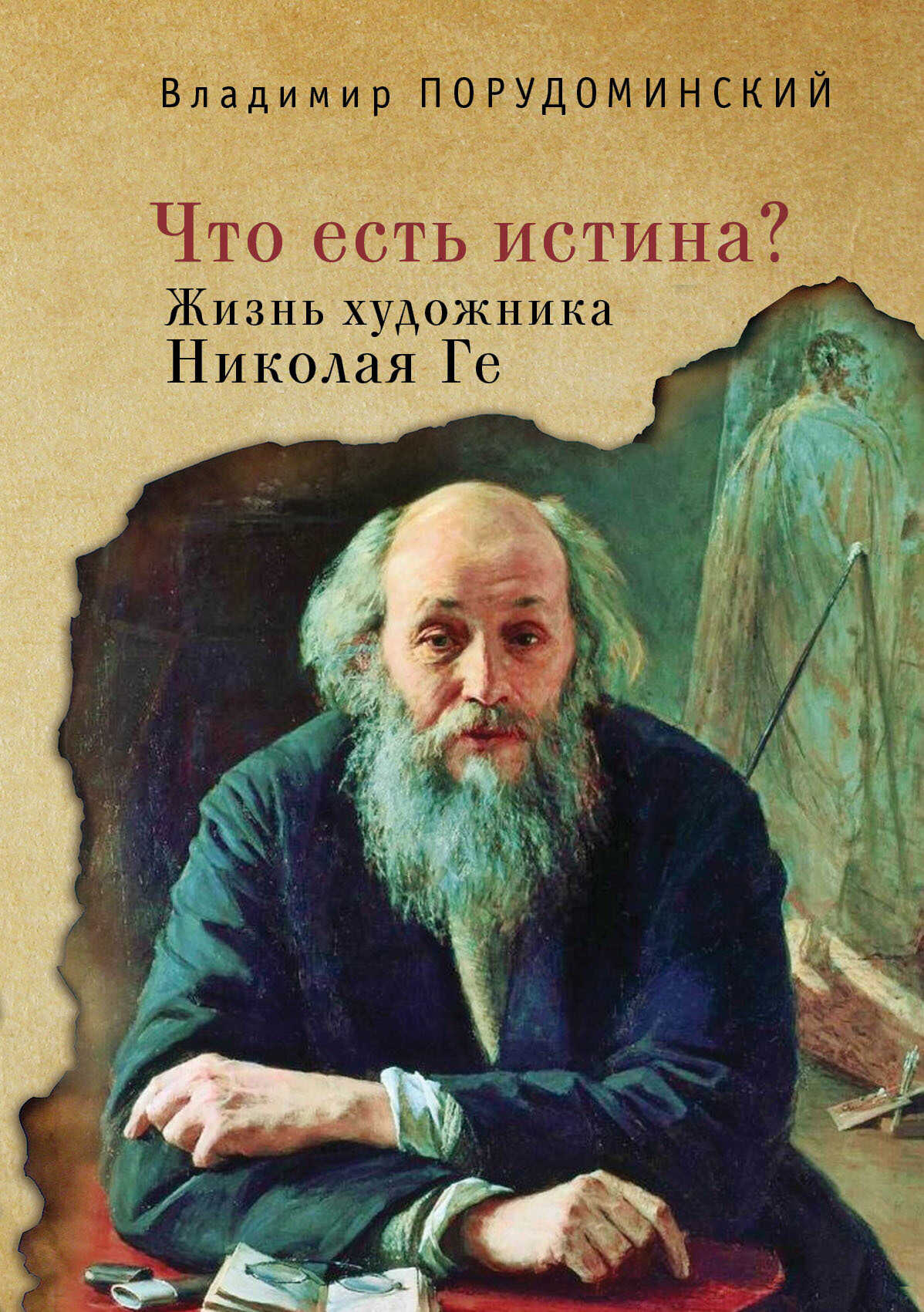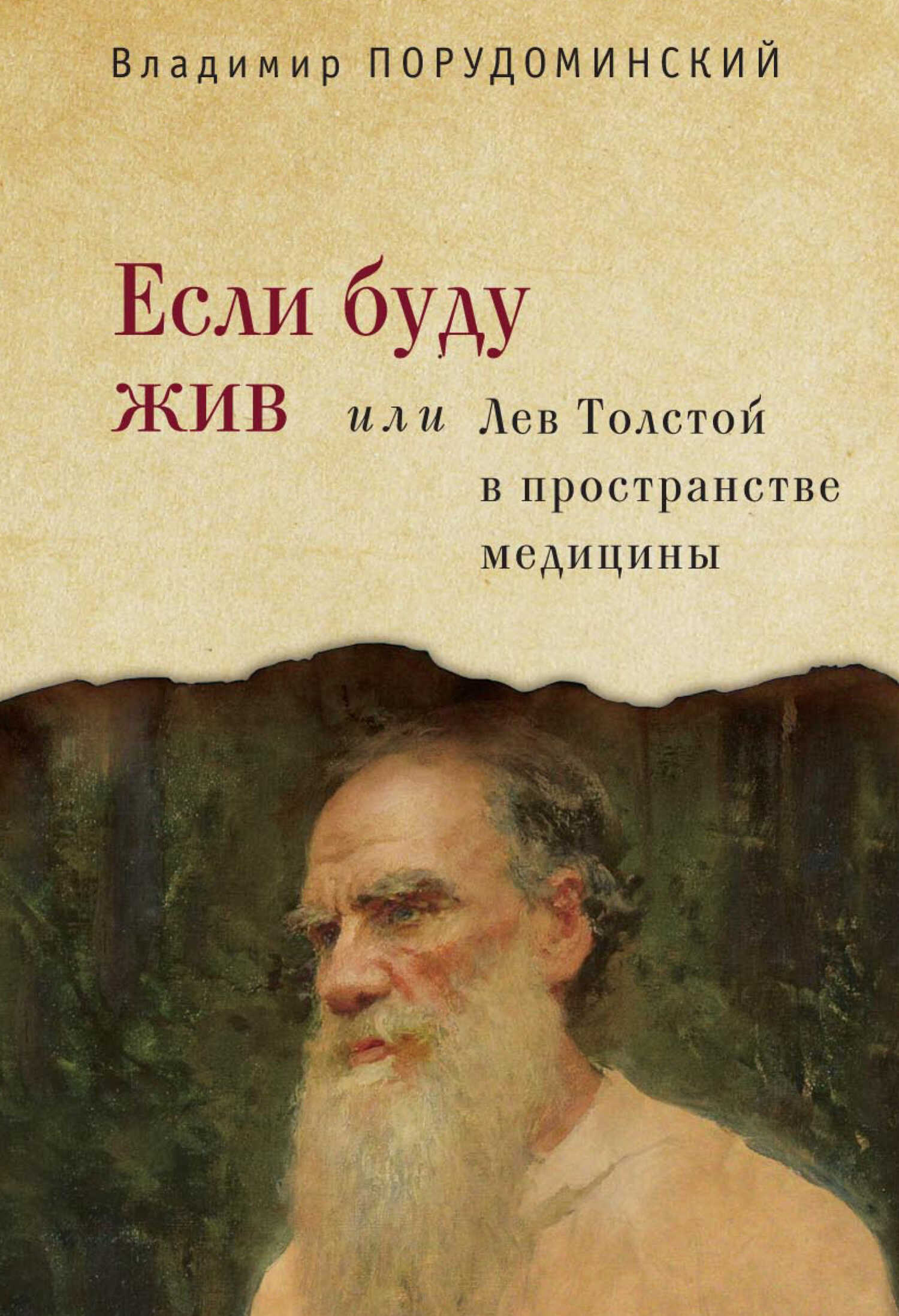счет долга.
Позвали в Аничков писать императрицу, за работу положили восемь тысяч рублей, Крамской пишет поясной портрет, еще один – в рост, потом с фотографии; деньги для надежности вкладывает в недвижимость – строит дачу на Сиверской, дача обходится втрое дороже, чем рассчитывал, надо писать заказные портреты, чтобы расплатиться с долгами.
Васнецова Виктора он поучает: «Если вы убеждены в правильности намеченной вами дороги, то изворачивание практическое не должно быть в зависимости от нее» – горький опыт!..
(Помнится, юношей в трудную минуту, когда показалось – жизнь кончена и ничего хорошего впереди, убежал за город, в рощу, бросился на землю и заплакал; выплакался, поднял голову – сидит рядом старичок.
– Ты чего? – спрашивает. – Да не гордись, не молчи, говори – тебе же легче будет.
– Тяжело жить.
– А ты погляди, вишь, березу молнией ударило; кажись, всю спалило, ан из-под корня-то новая зелень пробивается. Так, брат, все на свете…
Однажды, в ранний час, неслышно затворить за собой тяжелую дверь с начищенной бронзовой ручкой, с ключиком звонка – «Повернуть» и медной дощечкой «Иванъ Николаевичъ Крамской» – и всю нынешнюю жизнь оставить за этой дверью: обязанности и обязательства, долги, недвижимость, Софью Николаевну, детей, обстановку, мастерскую, портреты оконченные и лишь начатые и вовсе не начатые, даже замыслы оставить, – и осторожно прижать дверь плечом, пока не щелкнет замок, а после так же осторожно потянуть ее за ручку на себя, убеждаясь, что заперта, и, стараясь не стучать каблуками, сбежать, чуть касаясь рукою перил, вниз по лестнице, на улицу и тут же, на углу, остановить первого извозчика – впрочем, лучше пешком, даже непременно пешком, – уж он не знает как, только оказаться за городом, в прозрачной и гулкой березовой роще, у реки, именно – у реки, чтобы палевая вода едва-едва покачивалась у кромки светло-желтого песка и чтобы легко покачивалась на ней какая-нибудь черная щепка, и здесь, на берегу, упасть, как в отрочестве, на землю, выплакать молодыми горячими слезами все, что душу томит, а после увидеть перед собою старичка с зеленой веткой в руке, старичок коснется веткой его плеча и скажет: «Иди, брат!..»
Крамской просыпается по утрам в своей квартире на углу Биржевого переулка и Малой Невы, за тяжелой дверью, обитой изнутри – от наружных звуков и от сквозняков – плотным войлоком, просыпается в своей постели, укрытый широким стеганым одеялом на верблюжьей шерсти. Из окон квартиры видны Дворцовая набережная и Петропавловская крепость.)
Крамской убеждает Виктора Васнецова, что можно быть современным художником и не иметь заказов. Сам он до последнего дня в заказах, его последнее письмо – о договоре, о новом заказе, о стоимости портрета и повышении цен на портреты.
(Старый договор – вечная история: живописец Конон Юшкевич-Стаховский за десять пудов житней муки, четыре пуда пшеничной и четырнадцать рублей деньгами должен «срисовать или намалевать» портрет помещика Староженко «точь-в-точь похожим на живое его, Павла Староженко, лицо в мундире, при шпаге, с руками», – вот тебе и старичок с зеленой веткой!..)
Из журнала «Живописное обозрение» просят у Крамского биографические сведения для статьи. Он сочиняет автобиографию, скудную сведениями и одностороннюю, – поучительный рассказ о том, как условия жизни ломают и подчиняют художника. Перечень работ (купол в храме Христа Спасителя – первая продажа себя, «потом портреты, и карандашом, и красками, и чем попало») он составляет как перечень заказных работ, с нарочитым пренебрежением сваливая в кучу все портреты. Он итожит прожитую жизнь, выводит формулу, по которой вынужденно жил, вот эту самую: борьба из-за куска хлеба и в то же время цели, ничего общего с рублем не имеющие. Формула не так проста, как кажется, и расчеты по ней не так просты. Васнецову Крамской обещает кусок хлеба на пути к высокой цели без «практического изворачивания». Для самого Крамского формула – камень на распутье: налево пойдешь, направо пойдешь… В автобиографии он не упоминает даже «Христа в пустыне» («единственную настоящую картину»): людям, которые от его особы, от него, «особы», ждут чего-то, он объявляет вслух, что не туда пошел, где найдет, а туда, где голову сложит. Сразу следом за формулой про кусок хлеба и иные цели: «Так дело тянется и теперь. Когда кончится мое (в сущности, каторжное) теперешнее положение и кто одолеет в борьбе, я не знаю и не предугадываю… Чем больше захватываешь поле, тем больше встречается препятствий. Словом, на этом месте начинается сказка про белого бычка»… От сказки про белого бычка он предостерегает Васнецова: надо захватывать «поле искусства», а не «хлебное поле». Виктор Михайлович послушался учителя и, расставшись с жанрами, которые так по душе Крамскому, пишет поле сражения – «После Игорева побоища»; по этому полю, прямая без распутий, пролегает его дорога к цели. Крамской (в письме к Репину) беспокоится, что этак Васнецов никогда ничего не продаст.
Репин в воспоминаниях о Крамском круто сменяет панегирики учителю на осуждение, рассказывает, как Крамской «захватывает поле»: «Он покупает землю в живописной местности на Сиверской станции и устраивает там превосходную во всех отношениях мастерскую, особо от большого двухэтажного дома… Дом просторный, веселый; кругом, на красивом холме, посажены разных пород деревья, аллеи убиты щебнем и замощены булыжником. Масса цветов рассыпается богатым ковром по куртинам… беседки, зонтики… Внизу до живописной речки Оредеж клумбы клубники и других ягод до самой собственной купальни. Все три десятины парка обнесены новой, прочной оградой, оранжерея для сохранения цветов на зиму, службы, сараи – словом, полный помещичий дом…» Репин объясняет, что ум Крамского, отягощенный рефлексами и опутанный благоразумием, все более прикрепляется к земле; он уже не верит в молодые порывы, вдохновение не посещает его: «Летом он возился с ненужными пристройками на даче, зимой работал над заказными портретами… Писал этюды со своих детей на воздухе, на солнце, или какой-нибудь уголок дачи с балкона, или букеты цветов, если не случалось летом уезжать куда-нибудь на заказные портреты… Встретит какой-нибудь тип мужика, увлечется, напишет с него прекрасный этюд и опять в город, к генеральским портретам» – у Репина на десяти строчках четыре раза заказные портреты, да не просто заказные – генеральские.
Но Репин сам же пылко восторгался многими портретами работы Крамского «последних лет», «Неутешному горю» давал первый номер на Двенадцатой передвижной выставке, неоконченный «Хохот» воспевал как высокое создание, даже раскрашенную гипсовую голову Христа объявлял «необыкновенной» вещью, даже букеты цветов, написанные Крамским, высоко одобрял и готов был приобрести.
В воспоминаниях Репина старание показать превращения Крамского слишком явственно. В последней главе, напористо названной «Перемена», вместо прежнего учителя появляется приземистый