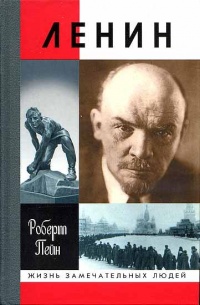Lors que souefplus il me baiserait, Et mon esprit sur ses lèvres fuirait, Bien je mourrais, plus que vivante, heureuse.
[И когда он снова поцелует меня, И выпьет губами мою душу, Я точно умру счастливее, чем жила. ][582]
Если забыть на время о современном значении слова baiserait (во времена Лабе оно означало только поцелуи, но с тех пор приобрело значение полноценного сексуального контакта), французский оригинал кажется мне вполне обычным, однако мило-непосредственным. Быть счастливее в смертельной агонии любви, чем в горестях жизни, – один из древнейших поэтических образов; душа, уходящая с поцелуем, – столь же древний и столь же избитый. Что же такое почувствовал Рильке в стихотворении Лабе, что позволило ему превратить ординарное heureuse в достопамятное seliglicher? Что побудило его снабдить меня, человека, который в противном случае, скорее всего, лишь рассеянно пролистал бы стихи Лабе, этим сложным и тревожащим чтением? Насколько сильно такой одаренный переводчик, как Рильке, влияет на наше представление об оригинале? И что в таком случае происходит с доверием читателя к автору? Думаю, в какой-то степени ответ на эти вопросы возник в голове Рильке однажды зимой в Париже.
Карл Якоб Буркхард, еще не знаменитый автор «Цивилизации Возрождения в Италии», но молодой, почти никому не известный коллега-историк уехал из родного Базеля учиться во Францию и в начале 1920-х работал в Национальной библиотеке в Париже. Однажды утром он зашел в парикмахерскую у площади Мадлен и попросил вымыть ему голову. И, сидя перед зеркалом с закрытыми глазами, он услышал, как у него за спиной разгорается скандал.
Кто-то кричал басом: «Все так говорят, господин хороший!» Женский голос пискнул: «С ума сойти! А еще лосьон „Хумигант“ попросил!» – «Слушайте, мы вас не знаем. Впервые в жизни видим. Так дела не делаются!»
Третий голос, слабый, хнычущий, как будто из другого измерения – голос деревенского жителя с легким славянским акцентом, – пытался объяснить: «Ну пожалуйста, простите, я забыл бумажник, надо только сходить за ним в гостиницу…»
Рискуя, что мыло попадет в глаза, Буркхард обернулся. Три парикмахера яростно жестикулировали. За столом в праведном негодовании поджала сиреневые губы кассирша. А маленький скромный человечек, с высоким лбом и длинными усами, умолял: «Клянусь вам, можете позвонить в гостиницу и проверить. Я… Я… поэт, Райнер Мария Рильке». «Ну конечно. Так все говорят, – проворчал парикмахер. – Только вы уж точно не из наших постоянных клиентов».
С волос Буркхарда капала вода, когда он вскочил со стула, сунул руку в карман и громогласно вмешался: «Я заплачу!»[583]
Буркхард встречался с Рильке раньше, но не знал, что поэт уже вернулся в Париж. Несколько мгновений Рильке не узнавал своего спасителя; а узнав, с облегчением рассмеялся и предложил подождать, пока он освободится, и потом вместе прогуляться по набережной. Буркхард согласился. Через некоторое время Рильке пожаловался на усталость, и, поскольку обедать было еще рано, они решили зайти в букинистический магазин неподалеку от площади Одеон. Старый букинист приветствовал их, встав со стула и помахав книгой в кожаной обложке, которую читал. «Это, господа, – сообщил он, – Ронсар, издание Бланшмана 1867 года».
Рильке с восторгом ответил, что очень любит стихи Ронсара. Одно имя тянуло за собой другое, и наконец торговец упомянул стихотворение Расина, которое, по его мнению, было точным переводом 36-го псалма. «Да, – согласился Рильке. – Те же человеческие слова, те же мысли, тот же опыт и интуиция». А потом добавил, словно внезапно совершил открытие: «Перевод – это идеальная процедура, которая дает возможность оценить мастерство поэта».