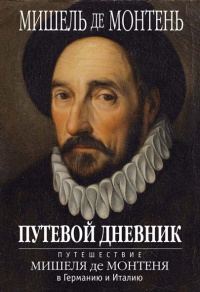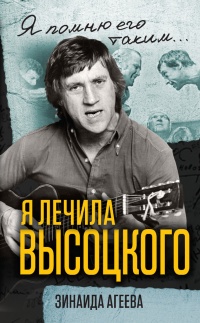но я приду
Смолк натужный гул листодуев. Перерыв на обед. Смотрю на несколько прекрасных деревьев у трогательного надгробия четы Радзивилл. Скульптор изобразил обоих такими, какими их можно было увидеть в тот вечер 1937 года в освещенной люстрой гостиной: ее, штопающую носки; его, с трубкой, читающего газету. И нигде никакой войны.
Сижу в палате у ван Рита, снаружи вдруг налетает настоящий шквал с градом. Два голубя жадно склевывают белые крупинки на подоконнике. «Манна небесная», – говорит он.
Ван Рит оставался на выходные в большой квартире своего друга, процветающего художника. И постоянно тихо жаловался на затруднения, из-за которых один жить не может.
Реакция его друга, с широким жестом в сторону своей мастерской: «Всё, что тебе нужно, мальчик мой, это Искусство!»
На взгляд ван Рита, пошлое замечание. Как если бы тонущему кричали с берега: «Всё, что тебе нужно, парень, это твердая почва под ногами!»
Он рассказывает, что раньше у них в доме была служанка, которая для него, мальчика, собиравшего сигарные банты, отправлялась в город искать их на ступенях Большого Клуба[223] – по ним входили и выходили знатные господа. И чаще всего возвращалась не с пустыми руками.
Он разглядывал то, что люди развешивали на стенах над своими кроватями: фотографии внуков, свадебные фотографии (соль на раны – в сравнении с тем, что на самих кроватях) или убийственное изречение, подходящее к нашим проблемам. Нередко такое изречение кем-то аккуратно вышито и помещено в рамку под стекло. Часто попадается на глаза: Никому не дают программку концерта жизни.
Ван Рит поясняет мне смысл этого изречения: «Обычно имеется в виду, что на земле, если мечтаешь о велосипеде, тебе неизменно суют в руку половник. Такая уж у нас планета».
Другой вариант: Сделай мир лучше, начни с себя. Что натолкнуло Мике на такие вариации в ее кабинете: Ублажай мир, начни с себя; рядом Кто знает себя, не прощает никому и Жизнь может быть песней, maar het refrein is Hein[224].
Над кроватями нередко встречаются сентенции и такого типа: Друг, входящий сюда, не торопится никогда, опаздывает – всегда. Ван Рит указывает мне еще на одно изречение, над кроватью мефроу Тен Кате, той, с которой пытались считать[225]. Его выжгли на дереве: Alle Pilze kann man essen, aber manche nur einmal [Все грибы можно есть, но некоторые только один раз].
Над его кроватью висит удивительная по качеству старая фотография. На ней вид из детской в квартире, где он жил со своими родителями. В обрамлении небольшого окна мансарды видно залитое солнцем море верхушек деревьев. «Ребенком я фантазировал, что наш дом – это огромный ковчег, который буря гонит по водам, и это первое окно, которое Ной открыл через 150 ужасающих дней. Через окно влетел голубь с зеленой оливковой веткой в клюве – знак того, что вода отступила».
О концерте жизни
Менеер Адема умер в возрасте 78 лет, в глубокой деменции. От главного регионального инспектора по охране растений осталась какая-то сморщенная мартышка. Недели три назад к нему еще раз приходила его жена, ей пришлось добираться с другого конца города на трех автобусах и еще довольно много пройти пешком.
На ней было платье, вероятно, 1954 года или около того. Очень худая, она выглядела так, словно война только что кончилась. Я невольно подумал об одном японском солдате, который вышел из джунглей в 1965 году единственно лишь для того, чтобы узнать, что война проиграна, – настолько нелепым казалось ее платье, напоминавшее о других временах, что давно уже миновали. Она немного постояла в ногах у его кровати, покачивая головой, и ушла домой. Казалось, она пришла, чтобы окончательно разделаться с бременем – там, в постели, и, успокоенной, уползти обратно в дыру, где будет сидеть в ожидании, когда ничто разверзнется и под ней тоже. «Я больше не приду», – ее последние слова Мике. А еще она сняла их свадебное фото, висевшее над кроватью, и спрятала в тумбочку. С концерта жизни.
Выхожу от Адемы и встречаю семью Гейтенбеек: мать с одним или двумя из своих трех сыновей и сумками, полными стиранного белья, еды и питья. Каждое утро в десять часов они врываются в отделение, чтобы душить в объятиях своего тяжело пораженного инсультом незабвенного, дорогого мужа, отца, тестя и дедушку.
Мать и сыновья при этом стараются быть в центре внимания, отчасти из-за синдрома самовосхваления: они охотно соревнуются с родственниками других пациентов, которые редко или вообще никогда не приходят; или с теми, которые, если и появляются, разобраться в том, что там происходит, не в состоянии.
Кровать отца они обвешали всякими цацками-мацками, мишками, шторками, рюшиками, карточками, картинками, зеркальцами и прочим слащаво раскрашенным дерьмом с бантиками, которое выводит меня из себя, но для них – зримый символ их преданности.
Наблюдая за тем, как они суетятся, так и видишь их вскоре ухаживающими за могилой, где, пожалуй, наверняка будет надгробие гладкого красного мрамора, поверх которого искусственные цветы и словно сделанные из конфетти веночки из гладкого натурального камня розового, желтого и неестественно зеленого цвета. Они обращаются с человеком как с куклой.
Яаарсма врачует уже лет тридцать и для разнообразия задается вопросом, что же он всё-таки вылечил: «Главным образом мои собственные ложные представления об этой профессии, хотя от них никогда полностью не избавишься. Как бы там ни было, это была большая работа! Но тратить время и энергию на то, чтобы санировать идеи других людей, теперь я на это действительно не способен».
Одна пациентка очень серьезно, уже во второй раз, спросила его, что он думает о переживании близости смерти, которое она испытала во время наркоза. Пресловутый рассказ о темном туннеле, в дальнем конце которого стоял в свете некто в длинных одеждах и подал знак, настойчиво призывая душу вернуться обратно. Что она тут же и сделала. «И когда я проснулась после наркоза, я была бесконечно рада, потому что теперь знала несомненно и навсегда, что есть жизнь после смерти!» – заявила она восторженно и всё еще сияя от счастья.
Уже в прошлый раз ему не удалось отмахнуться, так что теперь он раздраженно сказал: «Мефроу, вся жизнь – это переживание околосмертного состояния!» – и стремительно пошел прочь. Он как раз должен был осмотреть женщину, для которой этого около уже не было. Она была найдена мертвой в своей постели. Никаких признаков насилия, как сообщали газеты.