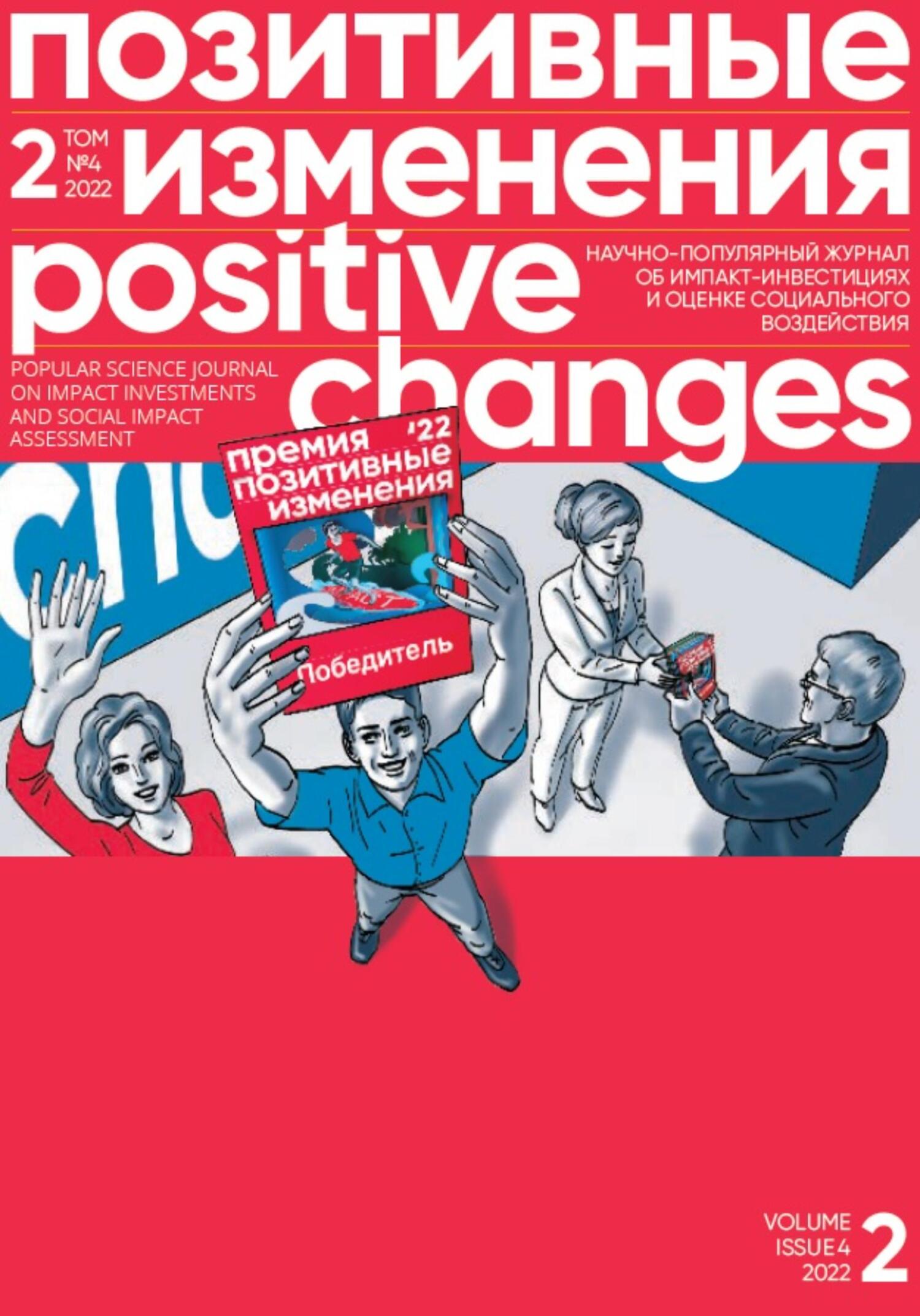деле. Этот факт, нисколько не меняя безнравственности нашей агрессии, мешал осознать истинный ее характер, затемнял, позволял говорить: ведь если не мы, то они.
Я не участвовала в этих военных кампаниях. Никогда не была в Финляндии. Во Львов попала в 1964 году. (Город, из которого вынута душа. Каменная оболочка — дома, соборы, кладбище — одна, а начинка — от другого пирога.) В Прибалтику впервые приехала в 1947 году.
Я не пользовалась особыми благами от оккупации. Я не выступала в прессе, впрочем, меня никто и не просил. И все-таки я была оккупанткой. Потому что без таких людей, без тех, кто поддерживал тогда, без тех, кто поддерживает сегодня, никакая оккупация невозможна.
Корешки старого сознания гниют, остаются, выдергиваешь их с болью. Эти корешки ушли в глубину еще и потому, что вскоре пришла большая война и предшествующие малые растворились в большой нашей крови, в большой нашей беде.
* * *
Ноябрь, пятьдесят шестой год. Венгрия. Тут уж я ничего не принимала на веру, не одобряла и не поддерживала. Но я с этим сравнительно мирно сосуществовала. Работала в журнале «Иностранная литература», который печатал статьи о «контрреволюционном перевороте». Я читала выступления Сартра и Веркора, осуждавших наше вторжение, совсем иначе, чем во времена ВОКСа, с интересом, сочувствием. Но еще без отождествления. Заведуя отделом критики, я сама готовила вместе с авторами статьи, полемизирующие с польскими «ревизионистами».
Да еще и такие мысли мелькали: ведь там в Венгрии действительно вешали коммунистов… Но такие мысли сейчас же перечеркивались противоположными — о позоре агрессии. Хотя мне виселицы — кого бы ни вешали — внушали лишь ужас и отвращение.
Краем уха я слышала о листовках у нас, о студенческих кружках; вскоре у нас арестовали группу историков — группу Краснопевцева. Был судебный процесс. Меня это еще не касалось.
Моя жизнь могла спокойно продолжаться по-старому. То есть по-новому, в надежде на либеральные реформы после XX съезда. Надо бороться каждый на своем посту, за такие изменения, чтобы новая Венгрия стала невозможной.
Вот напечатаем наконец роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» или разделаемся со злодеем Кочетовым — вот это победа.
Тогда я еще могла быть частью той системы, которая танками давила рабочих Чеппеля и интеллигентов из кружка Петефи…
1968, сентябрь
24.
В редакции
«Иностранной литературы»
Решение о создании журнала было принято в декабре 1954 г. на II съезде писателей. О необходимости такого журнала несколько лет говорили на собраниях. Произойти это могло только после смерти Сталина.
Нынешний главный редактор Н. Федоренко в очередной статье, посвященной 25-летию журнала (1980 г.), утверждает, что «Иностранная литература» возникла в результате победы советского народа в Великой Отечественной войне. Если так, то почему ждали десять лет?
Когда редакция стала учреждением, мы с ностальгией вспоминали начало, те времена примитивной демократии, когда все делали всё.
Поехали в Библиотеку иностранной литературы, все сотрудники еще умещались в машине А. Чаковского. «Не знаю, умею ли я руководить редакцией, но машину водить я безусловно умею». Больше он с тех пор не сомневался, умеет ли он руководить.
От работы в журнале меня очень отговаривали: Чаковский был известен своим отвратительным поведением во время борьбы с «космополитами». На московском писательском собрании в 1954 г. его согнали с трибуны.
Никто из нас вначале не знал, что надо делать, искали статьи, книги, знающих людей. Прежде всего тех, кто в свое время сотрудничал в «Интернациональной литературе».
Николай Вильмонт стал заведовать отделом литературы капиталистических стран. К нам пришли со статьями, переводами, предложениями А. Елистратова, Н. Ман, Е. Калашникова, М. Лорие, О. Савич, Е. Романова, Н. Волжина и многие другие. Преемственность отчасти сохранялась.
В первый номер готовилась статья Александра Аникста о романе Д. Олдриджа «Герои пустынных горизонтов». Этот роман до создания журнала в 1954 г. обсуждался на активе иностранной комиссии при Союзе писателей. Анна Елистратова выступала против издания книги в СССР. Это было еще в тот период, когда советские читатели, судя по нашим переводам, могли считать, что в Англии было всего два писателя — Олдридж и Линдсей. Защищали роман Аникст, Мендельсон и я. Этот эпизод сейчас воспринимается совсем как древняя история. Книга Олдриджа вышла, долго лежала на прилавках. Никто о ней потом не писал, споров она не вызвала, многим читателям кажется скучной.
С Аникстом я впервые столкнулась заочно. Нам в ВОКСе нужна была статья литератора-фронтовика на тему «Почему я люблю американскую литературу?». Статью заказали Аниксту. Но нам, — мы редактировали вдвоем, — показалось, что написал он не то и не так, как мы считали нужным, и мы ее переделали, перечеркали, вписали свое — все без согласия автора.
Прочитав уже в «Иностранной литературе» статью Аникста об Олдридже, я увидела — можно писать и о зарубежных книгах, выражая то же самое, о чем думаем, спорим, что касается лично нас.
Она — как впоследствии любая талантливая статья, книга, заметка — проходила трудно. Очень резко против статьи выступил Савва Дангулов, назначенный заместителем Чаковского. Аникст развивал мысль — отнюдь не новую — о романе идей и романе образов; и причислял «Герои пустынных горизонтов» к романам идей. Сейчас в пределах даже очень консервативного журнала трудно представить себе, что по такому поводу браковали бы статью. Это был и тогда именно повод. Вся статья дышала новым, ломкой, вызовом. Ее подпочву ощущали и ее противники, и ее защитники.
Эренбург отстаивал статью (несколько месяцев он был членом редколлегии, а потом вышел именно из-за Аникста). У Эренбурга по делам журнала бывала Мотылева. И как всегда примирительно заметила: «Илья Григорьевич, из статьи же вырезали только маленький кусочек, ее же будут публиковать».
«Тамара Лазаревна, у мужчины можно отрезать маленький кусочек, и он перестает быть мужчиной».
Для второго номера журнала предназначались рассказы Колдуэлла. Один о двенадцатилетней девочке, которую мать продает — в доме голод. Очень страшный рассказ, также вызвавший споры. С тех пор опубликовано множество подобных рассказов, романов, пьес, и никого это не смущает. Но это было началом. Каждое новое имя, каждая новая мысль, каждая свежая свободная строка пробивались в печать трудно, с боями.
Защищая статью Аникста или рассказы Колдуэлла, я тогда поступала по инстинкту. Позже я поняла связь между реабилитацией Хемингуэя или Стейнбека и реабилитацией наших