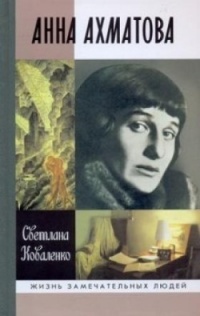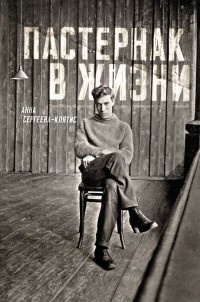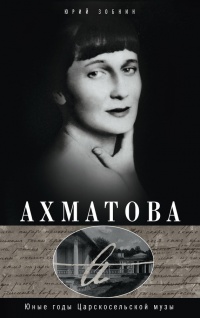А потом чьи-то лики Обожгут горящим взглядом. Вдруг охватит ужас дикий, Кто-то грозный и великий Станет близко-близко, рядом, Сдавит душу, вырвет стон.
— О, я его знаю — ужас без лица. Именно так: «Сдавит душу, вырвет стон»… И не видно, кто, а значит, скрывается самое страшное, что и представить нельзя.
Их руки соединились, как бы защищаясь от вселенского ужаса: ледяные, тонкие, невесомые — Анны и горячие, сильные, надежные — Гаршина.
После этой беседы, пронизанной флюидами взаимного притяжения, расстаться они уже не смогли. Едва Анна выписалась из больницы, Гаршин стал навещать ее в Фонтанном доме. Она жила в пунинском кабинете, хозяева были в отъезде. В пустой квартире сквозняком пролетал шепот:
— Ты меня не будешь обижать?!
— Только носить на руках и оберегать.
— «Ты опоздал на много лет, Но все-таки тебе я рада…» Нашелся наконец мой «опоздавший». Не поздно ли?
— Не поздно. В самый нужный момент. Ведь я не первый, но точно — последний. Навсегда.
Гаршин, так же как Анреп, принадлежал к типу вечных любовников — легкий, подвижный, всегда как будто немного влюбленный в каждую женщину, случайно оказавшуюся рядом. Такое мужское внимание, даже без авансов на продолжение, льстило всем. А когда на лекциях легким взмахом руки профессор откидывал со лба густые, без седины, пряди каштановых волос — студентки обмирали.
Он был эстетом во всем, что бы ни делал. В молодости полушутя утверждал, что на свете есть только четыре идеальные вещи: роза в стакане воды, хороший микроскоп Цейса, стакан чая с лимоном, рюмочка холодной водки.
Могла ли подумать Анна, из какого ужаса приходит к ней этот безупречно одетый, приятно пахнущий человек? В трех крошечных комнатушках коммунальной квартиры проживали, кроме Гаршина, его жена Татьяна Владимировна — тяжелая мрачная женщина с приступами истерии, два сына (старший с женой), да еще сестра Владимира Георгиевича с дочерью. Спал эстет на железной койке, застланной солдатским одеялом.
Встречаясь с Анной, он убегал из семейного кошмара в иной мир и старался сделать его как можно более элегантным — отвести томившуюся по прекрасному душу.
В том, как Гаршин описывал интерьеры для тайных свиданий, виден ценитель красоты и удобства. В мае влюбленные уехали в Москву, и здесь, у друзей Гаршина, нашлись комнаты с интерьером и милыми деталями, создававшими обособленный от реального мрака уголок.
«Светло: окно широкое — в небо и на реку.
Слева поперек — кровать карельской березы. По стенке диван, карельской же березы с бронзой.
Перед ним стол. Ландыши, кекс, чай светлый…
Шкаф — книги — много книг: много стихов.
Люстра елизаветинская с синим стеклом и наивными подвесками».
Анна, несмотря на полный ужас ее тогдашней жизни, оттаивала рядом с Гаршиным:
За ландышевый май в моей Москве кровавой Отдам я звездных стай сияние и славу.
А вот стихи, посвященные В.Г.:
Из каких ты вернулся стран Через этот густой туман? Или вижу я в первый раз Ясный взор прощающих глаз?
Казалось бы, с арестом сына огонь радости жизни для Ахматовой навсегда померк. Но по каким-то неисповедимым законам творчества трагедия тридцатых годов словно высекла искру из кремня, и пламя ее творчества взметнулось высоко и торжествующе, несмотря на разрушенный семейный очаг, на мучительные тюремные очереди, на постоянное ожидание ареста. Молнии творчества вызывают столкновения жажды жизни, молодости, влюбленности с тяжким бременем трагических обстоятельств. Вопль существа, заживо погребаемого.
Анна рвется к счастью и уже этим — виновата. Есть «гражданский муж» Пунин, но сын в ссылке. У нее ландыши и чай с лимоном в стакане, а у тюремных ворот рыдают голодные старухи… Анна Андреевна как бы раздваивается, и та часть, что жаждет быть просто счастливой женщиной, не прощает другой — измученной, скорбной — радости этих мгновений.