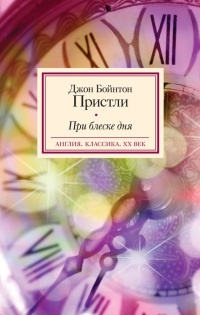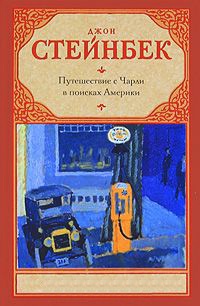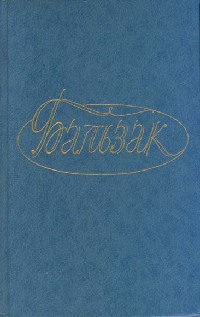Я попытался вернуться ползком назад – мне это удалось. Должно быть, рассказ, который я только что вспомнил, поддержал меня, я почувствовал, что мышцы мои сокращаются. Ощущение это придало мне уверенность, что я выйду из этого тупика, а минуту спустя я действительно выбрался оттуда. Не знаю даже, как мне это удалось. Должно быть, я в это время оказался способным на одно из тех необыкновенных усилий, которые не только возрастают от того, что мы их не сознаем, но даже вообще целиком от этого зависят. Как бы то ни было, я выпутался из беды и стоял теперь изможденный, задыхаясь, с догорающим светильником в руке и, оглядываясь вокруг себя, не видел ничего, кроме черных сырых стен и низких сводов склепа, которые хмурились надо мной, как брови некоего извечного врага, и словно запрещали мне не только побег, но и надежду. Светильник мой быстро затухал – я не сводил с него глаз. Я знал, что моя жизнь и то, что мне было дороже жизни, – моя свобода, зависят теперь от взгляда, устремленного на его огонек, и, однако, я смотрел на него бессмысленными, застывшими глазами. Свет сделался еще слабее, последние искорки его привели меня в чувство. Я встал, я огляделся вокруг. Вспыхнувшее на миг яркое пламя озарило какой-то предмет, находившийся совсем близко. Я вздрогнул и громко вскрикнул, хоть сам и не сознавал, что кричу.
– Тише, молчите, – произнес голос из тьмы. – Я оставил вас только для того, чтобы разведать проходы; я нашел тот, что ведет к люку, молчите, и все будет хорошо.
Весь дрожа, я приблизился к нему, спутник мой, должно быть, тоже дрожал.
– Что, светильник уже едва тлеет? – спросил он шепотом.
– Сами видите.
– Постарайтесь поддержать его еще хоть немного.
– Буду стараться; ну а если мне это не удастся, что тогда?
– Тогда мы погибли, – сказал он и разразился такими проклятьями, что я испугался, как бы не обрушились своды.
И, однако, не приходится сомневаться, сэр, что отчаянная решимость подчас как нельзя лучше подходит к отчаянным положениям, в которые мы попадаем. Кощунственные выкрики этого негодяя придали мне какую-то зловещую уверенность в том, что у него хватит мужества довести свое дело до конца. Он пошел вперед, продолжая бормотать свои проклятия, а я шел за ним следом, не спуская глаз с совсем уже затухавшего огонька, и мучения мои усугубляла боязнь еще больше разъярить моего страшного проводника. Я уже говорил о том, как чувства наши даже в минуты величайшей опасности могут уходить вдруг куда-то в сторону от главного и впиваться в самые мелкие и ничтожные подробности. Как я ни был с ним осторожен, светильник мой все-таки захирел, замигал, подарил меня, словно горькой усмешкой, своей последней едва заметной вспышкой и – погас. Никогда мне не забыть того взгляда, который в этой полутьме бросил на меня мой спутник. Пока светильник теплился, я следил за его мигающим пламенем, как за биением слабеющего сердца, как за трепетом души, готовой улететь в вечность. Он погас у меня на глазах, и я уже причислял себя к тем, кому уделом послан вечный мрак.
Как раз в эту минуту до нашего притупившегося слуха донеслись отдаленные, едва слышные звуки. Это означало, что в церкви, которая сейчас находилась высоко над нами, начинается утренняя месса, в это время года обычно происходившая при свете свечей. Эти неожиданные и словно сошедшие с неба звуки поразили нас до глубины души – мы ведь пребывали во мраке, на самой границе ада. Было что-то неописуемо зловещее в презрительном высокомерии этого небесного торжества, которое, славя надежду, обрекало нас на отчаяние и возвещало о Боге тем, кто при одном упоминании его имени затыкал себе уши. Я упал, не знаю уж, оттого ли, что обо что-то споткнулся в темноте, а может быть, от всего пережитого у меня попросту закружилась голова. Прикосновение грубой руки и грубый голос моего спутника вывели меня из забытья. Слыша проклятия, от которых в жилах у меня холодела кровь, нельзя было ни проявлять слабость, ни поддаваться страху. Дрожа, я спросил его, что же мне теперь делать.
– Идите за мной ощупью в темноте, – ответил он.
Страшные слова! Люди, которые открывают нам всю глубину нашего горя, всегда кажутся нам злыми, потому что сердце наше или воображение привыкло тешить себя надеждой, что на самом деле горе это, быть может, все же не так велико. Любой другой человек скажет нам истинную правду скорее, нежели мы себе в ней признаемся сами.
В темноте, в полной темноте, и на четвереньках, потому что удержаться на ногах я уже был не в силах, я последовал за ним. Но от этого способа передвижения мне тут же стало нехорошо. Сначала закружилась голова, потом меня охватило какое-то оцепенение. Я остановился. Спутник мой громко выругался, и я невольно пополз быстрее, как собака, которая повинуется окрику хозяина. Ряса моя успела уже превратиться в лохмотья, кожа на коленях и на руках была содрана. Несколько раз я ударялся головой об острые, неотесанные камни, которыми были выложены стены и потолок подземелья. И в довершение всего от всей этой невероятной духоты и от глубокого волнения меня охватила сильная жажда: было такое чувство, как будто во рту у меня лежит раскаленный уголь и я пытаюсь высосать из него капли влаги, а он только еще больше жжет мне язык. Вот в каком я был состоянии, когда окликнул моего спутника и сказал, что дальше идти не могу.
– Ну так останешься тут и заживо сгниешь, – ответил он, и, может быть, самые воодушевляющие и ласковые слова не подействовали бы на меня так сильно. Эта уверенность, которая приходит вместе с отчаянием, это пренебрежение к опасности, этот вызов силе в ее же собственной цитадели – все это вернуло мне на какое-то время мужество, только что может значить чье-то мужество среди всей этой бездны мрака и сомнений? Слыша его спотыкающиеся шаги и невнятные проклятия, я догадался о том, что происходит. Я был прав. Шаги его безнадежно замерли, и я узнал об этом по последнему донесшемуся до меня воплю, по скрежету зубов, которым он, видно, выражал отчаяние, по хлопку сомкнувшихся над головой заломленных рук, по ужасающим корчам, которые предвещали скорый конец. В эту минуту я стоял позади него на коленях и повторял каждый его крик, каждое движение. Исступленность моя его поразила. Он выругал меня и велел мне молчать. Потом он попытался молиться, однако молитвы его скорее походили на проклятия, а проклятия звучали как славословия Князю тьмы; задыхаясь от ужаса, я умолял его перестать. Он умолк, и, должно быть, около получаса ни один из нас не произнес ни слова. Мы лежали рядом, как две издыхающие собаки, о которых я когда-то читал: они приникли к зверю, за которым гнались и, уже будучи не в силах вонзиться зубами в его тело, обдавали слабеющим дыханием своим его пушистую шкуру.
Вот как выглядела наша свобода – такая близкая и вместе с тем такая безнадежно далекая. Мы лежали, не смея заговорить друг с другом, ибо о чем еще можно было говорить, как не о нашем отчаянии, а оба мы не решались бередить друг в друге все, что так наболело. Такого рода страх, который, как мы знаем, люди уже испытывали до нас и который мы боимся расшевелить, напомнив о нем тем, кто раз уже его испытал, – может быть, самое страшное из чувств. Одолевавшая меня физическая жажда начисто исчезла, уступив место жгучей жажде души, потребности в общении там, где ни на какое общение нельзя было надеяться, где оно было немыслимо, невозможно. Быть может, подобное чувство испытывают осужденные на великие муки ду́ши, выслушав окончательный приговор; они знают, на какие страдания их обрекли, но не смеют открыть друг другу страшную правду, которая в сущности уже перестала быть тайной, но мысль о которой так тягостна им, что они предпочитают молчать. Любые слова выглядят кощунством перед этим молчаливым и незримым Богом, который в минуты охватившего нас безнадежного отчаяния ниспосылает нам тишину.