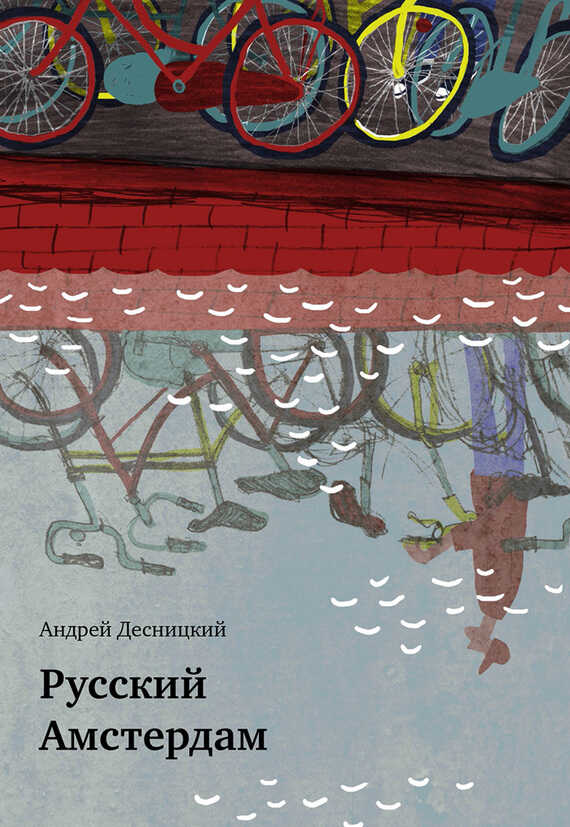кричу я ей.
Она отшатывается, когда я подбегаю ближе, и прячется внутрь. А я неистово несусь к выходу, распахиваю двери — может быть, я слышу, как они захлопываются за мной, а может, это стук толкателя — и выбегаю на парковку.
В нескольких шагах от меня, на месте для инвалидов, рядом с остальными машинами припаркован «Ниссан-Максима». Я подскакиваю к нему, увлекаемая инерцией своего тела. Попутно меня дважды тошнит на грязный асфальт. Дверца не заперта. Я забираюсь внутрь и вставляю ключ в зажигание. Мотор заводится.
Я оглядываюсь в надежде, что, может быть, Рейчел последует за мной, что она тоже искала способ сбежать. Но никого нет. Дверь не открывается.
Я выруливаю с парковки и съебываю.
26
Долгое время я просто еду и еду, не зная куда. Я лишь хочу оказаться как можно дальше от Комплекса.
Только когда я сворачиваю на трассу «Иллинойс 21», я наконец начинаю задумываться над тем, куда еду. Это восьмиполосная магистраль, я спокойно могу ехать по ней. Она на удивление чистая, брошенных машин почти нет. Я следую в сторону Чикаго по указателям. Свет танцует на кронах деревьев, которые закрывают набережную реки. Джонатан когда-то рассказывал мне о реках Иллинойса, что территория рядом с Великими озерами испещрена реками. По правую руку территория усеяна бизнес-парками, магазинами запчастей, новыми застройками с домами в колониальном стиле, общественными складами, ресторанами Benihana, блинными и закусочными.
Время от времени я смотрю в зеркало заднего вида, боясь увидеть позади фары. Но вскоре фары перестают быть нужны. Солнце постепенно всходит, а потом внезапно показывается целиком, ослепляя меня. Порывшись в бардачке, я нахожу солнечные очки. Это поддельные Chanel из Чайна-тауна, которые принадлежали Эшли. Я с усилием открываю окно и окунаюсь в холодный свежий воздух. Мои волосы развеваются и лезут повсюду.
Какое-то время не видно ни одного здания. Я начинаю думать, что еду не в ту сторону, от города, а не к нему. Но тут «Иллинойс 21» сужается и превращается в четырехполосную Милуоки-авеню. И я знаю, я чувствую, что еду в правильную сторону. Из рассказов Джонатана я помню, что это большая улица, которая по диагонали пересекает город и некоторые пригороды, проходя по нескольким районам.
Гленвью, Найлз. Я вычисляю называния пригородов по вывескам автосалонов, мебельных, банков, булочных и свадебных бутиков, которые мелькают за окном. Почти целую милю я еду мимо чего-то, что приняла за гольф-клуб-переросток, но это оказалось кладбище, в середине которого по необъяснимым причинам торчал покинутый палаточный городок.
Мои руки на руле перестают дрожать. Дыхание замедляется. Сердцебиение замедляется.
Проезжая под виадуком, я с изумлением замечаю импровизированные католические часовни с образами Святой Девы и святых, перед которыми разбросаны огарки свечей. Рядом брошенные спальные мешки и пластиковая садовая мебель. Потом я встречаю такие же лагеря — с образами, спальными мешками и мебелью — под каждым мостом. Очевидно, во время пешего исхода из города люди временно тут обустраивались. Они молились и спали под мостами.
Солнце скрывается. Небо заволакивают темные тучи. Вот-вот пойдет дождь. Бак наполовину опустел. Далеко я не уеду. Я доберусь до Чикаго, отдохну там как следует, пополню запасы, а потом придумаю, что делать. В городе полно щелей, в которые можно забиться.
На подступах к Чикаго на дороге скапливается все больше и больше пустых, покинутых автомобилей, так что мне приходится ехать по правой полосе. На каждом перекрестке я думаю, не свернуть ли на другую дорогу, но каждый раз инстинктивно удерживаюсь от поворота, продолжая ехать по полосе. Я не могу оставить Милуоки-авеню. Это единственная знакомая мне здесь вещь.
Знакомство из вторых рук все равно знакомство. Как будто все истории, которые мне рассказывал Джонатан о жизни в Чикаго, пока мы дремали в постели, стали частью моих собственных воспоминаний. Перед сном, когда мозг как губка впитывает в себя все без разбора, я глубоко погружалась в его замысловатую, кружевную память. Я была здесь в другой жизни.
Звуки Милуоки-авеню ночью в его квартире: ночные автобусы, которые останавливались под его окном; гудящие пожарные машины; бандитская перестрелка. И, разумеется, резкая сирена скорой помощи. Уличный транспорт постоянно был беспокоен, нервно рассыпаясь и перестраиваясь, чтобы пропустить аварийные службы, проносящиеся по всей ее невообразимой, грандиозной длине. Он прожил в этой квартире три года, во время которых отдалился от семьи в Южном Иллинойсе, не отвечал на их пьяные звонки и не желал приезжать на Рождество. Он считал Чикаго своим настоящим домом, и, как всякий город, тот менялся. Район постепенно благоустраивался, бандитские разборки переместились на другие улицы, дальше к западу, стрельба доносилась все слабее и через несколько лет вообще пропала. К этому моменту мексиканские забегаловки, куда он часто ходил, где продавали манго, свинину по-мексикански и трубочки с кремом, которые выглядели как рог изобилия, закрылись. Ночью стали раздаваться другие звуки: успокаивающее гудение стиральных машин и сушилок из автоматической прачечной внизу. Вибрация чувствовалась через пол, и наконец он засыпал.
Первое место, в котором ты живешь один, отделившись от семьи, говорил он, — это именно то место, где ты становишься личностью, становишься самим собой.
Я так долго была сиротой, что устала от этого, устала от постоянных поисков чего-то, что все равно меня не успокоит. Я хочу для Луны другого. Дитя двух родителей без корней, она родится, не связанная ни с кем, кроме меня. У нее не будет родного города, родного места. Но я хочу, чтобы мы жили в одном месте. Может быть, Чикаго, который любил ее отец, где он когда-то жил, подойдет.
Небо морщится; начинается дождь. На ветровом стекле расплываются капли. Я включаю дворники, но они сломаны, так что мне приходится пробираться через расплывающийся пейзаж.
Я не замечаю, как оказываюсь в самом Чикаго, — линия горизонта не меняется, но в какой-то момент я это чувствую. Ощущение теперь другое. И улица выглядит по-другому: плотное скопление торговых центров и кирпичных домов с полинявшими навесами. Повсюду автобусные остановки. Я проезжаю мимо старых иммигрантских лавок, оптовых центров, пунктов MoneyGram, дисконтных магазинов матрасов, мимо автомойки с броской старой вывеской, мимо магазинов европейских деликатесов и кондитерских, в нетронутых витринах которых соответственно висят колбасы и стоит многоуровневый свадебный торт.
«Динь-динь-динь-динь» — мигает индикатор топлива, показывая, что бензин почти закончился.
Но я все равно остаюсь на Милуоки-авеню. Она такая прямая и гладкая, по ней так легко ехать. Она редко делает непредсказуемые повороты, хотя на ней встречаются запутанные Т-образные перекрестки. Чем дальше на юг я еду, тем более благоустроенными