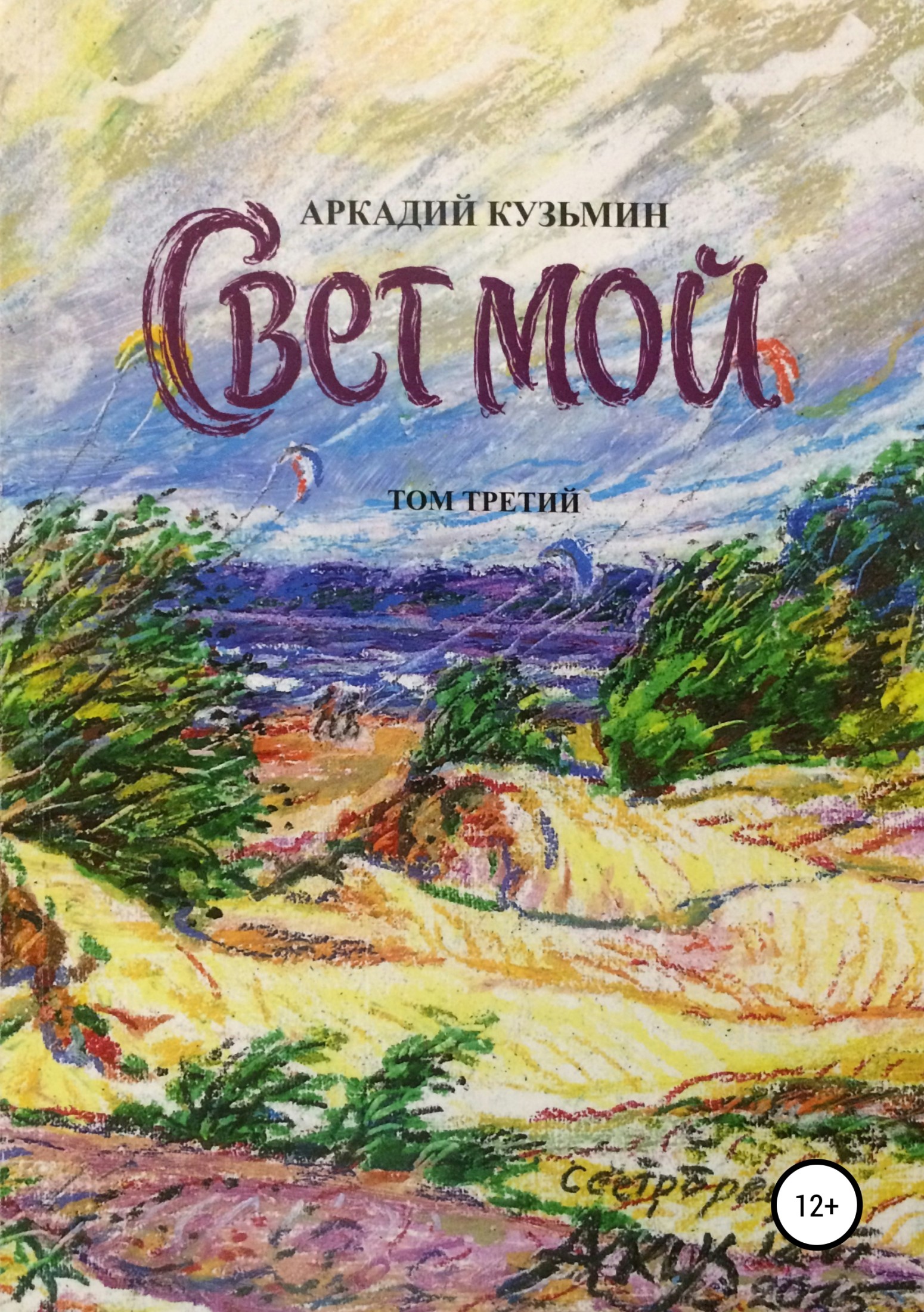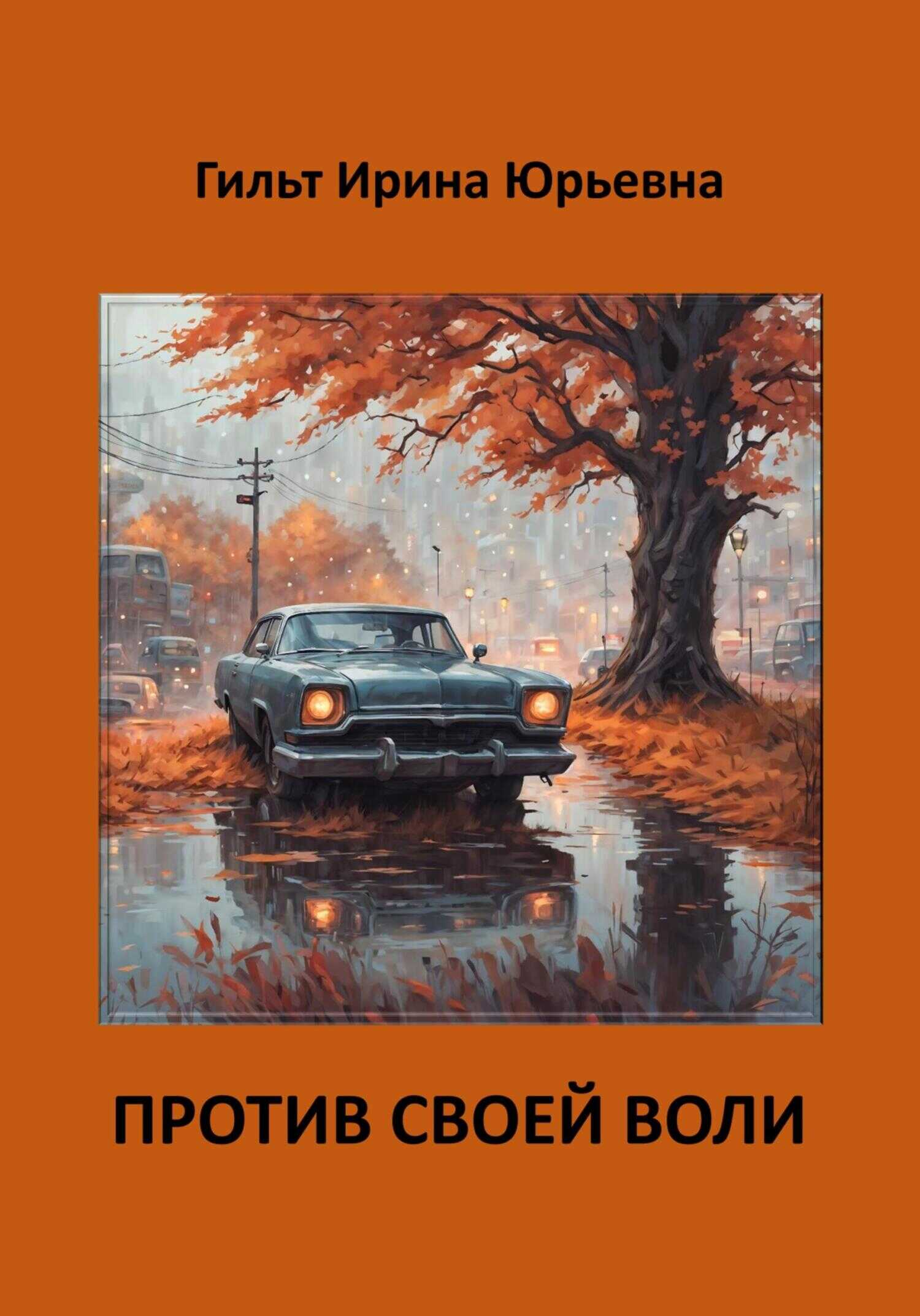бесплатное везде приложение; знай, жми себе и выжимай свое, сколько можешь, из всего, наслаждайся до упору, до пресыщенности полной, пока ты живешь, пока есть чем наслаждаться, пока ласково тебе светит, греет тебя Солнце. Пока этим еще можно пользоваться. Завтра, может быть, и поздно. И это, если сравнивать с чем-нибудь наглядно, нам следует совершенно сознательно стараться и не знать того (этому уж научились мы в тепличности условий, с соской), насколько трудно строился наш зыбкий дом, в котором живешь при неулаженных вокруг людских взаимоотношениях и совсем разлаженных уже – с самой природой.
Во Вселенной мы в каком ряду и качестве находимся? Известно ли кому?
Есть вещи пока только допустимые.
Однако, если только допустить, что ее, Вселенной этой, организм, или механизм, как таковой, вполне здоров и чем-то как-то управляется в существовании своем, то ведь может вполне статься в конце-концов, что обозримая нами ее мировая часть не есть что-то целое, законченное, а есть лишь всего-навсего строительная клеточка еще огромнейшего организма, который в свою очередь движется, функционирует по своим особенным законам, и что черные дыры, которыми всех пугают астрономы, являются, не более как переходами из одной такой микроскопической клеточки в другую с аккумулированием межзвездной, может быть, энергии, непонятной, недоступной еще нам.
Где предел Мирозданья? И где предел приспособляемости человеческого организма к добру, к ненависти, к богатству, к нищете, к лишениям, к нагрузкам? Может быть, мы, человечество, в стихийно-хаотическом своем развитии уже перешли границу соразмерности сосуществования на Земле и ныне однобоко разрастаемся, ничего не признавая – никаких таких удручительных факторов, точно опухоль-нарост? Что тогда? Спасут ли положение землян одни научные конференции? И железобетонные доктрины, позволяющие выжимать деньги из всего – для себя и своих детей?
Для чего жила Степанида Фоминична, Полина матушка, было неизвестно никому. Она все еще позволительно себе приставлявшаяся, как могла, неисправимая саможалейка, истерично-озлобленно рыкавшая, ноющая и слезливая, а никакая не врожденная калека, – она лишь прибавляла, как нередко бывает, забот дочери. Она нисколько не умнела, стараясь, пережив и оккупацию немецкую: своих заблуждений не оставила, хотя у ней ничего из этого не получалось никогда.
И много повидавшая всего Анна удивлялась к случаю на нее вновь и вновь, только с семьей поместилась в Полиной избе, на постоянном, значит, виду у этой брюзжалки и ненавистницы без всякого уже, казалось, повода.
Прежде, чем вселиться покамест в потрепанный Полин четырехстенный дом, Кашины сообща с его хозяйкой где забили или заткнули в нем пробоины и дыры; где в окна вставили найденные обрезки стекол, в том числе одно стекло от чьей-то автомашины – с проволочной, в сетку, внутренней прокладкой, а где зафанерили; почистили, помыли полы, привели все в кое-какой порядок. В правой половине избы (условно всю левую ее половину, вместе с печкой, взяла хозяйка себе) они поставили поломанные кровати, скамьи и прочее. И поволокли затем сюда, раскладывая, все нужные в обиходе вещи, быстро заполнявшие комнату, – был через нее вход в кухню. Иначе, чем в сломанной избе Кашиных.
И вот когда они-то, устраивались в Полиной избе, перетаскивались так сюда и ломались с грузом, эта бабка Степанида, все тощавшая, видать, своим воображением, встречала их в штыки – бдительно высматривала что-то перед ними и по-гномичьи трясла своим обглажено-обкатным подбородком.
– Во-о, как, отрепыши отцовские!.. Как меня-то, бедную, слабую, гонял ваш батька по снегу босиком, совсем ведь выгнал из дому, – она привсплакнула и кончиком ситцевого платка своего вытерла выжатые из глаз натуральные слезы, – так и на вас все это нонче втройне отразилось. Бог вас покарал: все кругом он зорко видит – дома вас лишил…
Мало того, ее попреки чаще доставались Анне, как жене Василия, но она также и вредила постоянно всем: так, пинала вещи, а то и просто сбрасывала, например, их обратно с чердака, те вещи, которые ей под силу было сбросить, т.е. вела настоящую осадную войну против всего вселившегося кашинского семейства.
Поля, если заставала подобные материны выходки, покрикивала на нее срываясь:
– Что ты юрзаешь все – боронишь?! Уймись, уймись! И по-сорочьи не трещи! Полезай на печку – марш! Твое место – там.
– И займи там оборону, – подсмеивался даже Саша, юмор понимавший.
Бабка подчинялась временно – на печь забивалась, да брюзжала иногда – также и оттуда, хотя уже тише, старая брюзга. Как же ей самой-то не надоело!
И Анна уж просила Полю не ругать ворчунью: пусть себе! Поворчит-поворчит она – да и скоро бросит, видимо.
Поражалась та – с открытостью:
– Ой, еще счастливый у тебя – такой отходчивый – характер, Аннушка, – ты еще прощаешь, терпеливая! Я бы не смогла… Меня, ее-то дочь родную, всю трясет: охамела, опупела совсем баба у меня – битьем ее не своротишь, думаю.
– Но это ж, Полюшка, не кровный супостат какой – предъявительница вздора вдовского, небольшой вредитель; это тот вон сколько кровушки пустил у нас, как вошел с огнем, что ни в коем веке ему не простится, – говорила правду Анна. – Проще к сердцу принимай… И потом: я ведь не привью и не востребую никак любовь и уважение к себе. И не стремлюсь к тому ни перед кем. По-моему, и ни к чему. Главное, теперь мне только бы своих Василия да Валерия дождаться, а тебе – Толю – и тогда бы уж спокойно можно лечь и умереть. Дело б было сделано. Ох, до того устала я, думать-то устала, – только, верно, лечь и умереть.
– Ну, зачем же, Аннушка, умирать теперь, коли мы при немцах выжили, не умерли – и, значит, страшное все позади?
– Да, все неуправка. Держит нас, никуда не отпускает. Не до смерти нам? Все некогда.
ХXI
Анна сущую правду говорила, не рисуясь, – ту, которой живут люди ее круга, степени отдачи; на себе она проверила, до чего она с ребятами крутилась день ото дня – порой уже не замечала даже, как, когда он новый день загорался, как, когда он гас. И хотелось бы ей малость отдышаться как-то, точно, лечь хотя бы на спокой – было бы такое очень просто, думать нечего, но ведь – уклонение от наложенных на нее обязанностей, вот что, – самое позорное. Ведь опять ей не хватало времени ни на что – столько всего накатилась сызнова. Все в семье, естественно, обмызгались, обносились, запаршивели, давно не мытые, не чищенные, да еще переустраивались с новым местожительством и приноравливались жить по-новому, в других условиях – и потому особенно взрослые, приводившие все в соответствующий