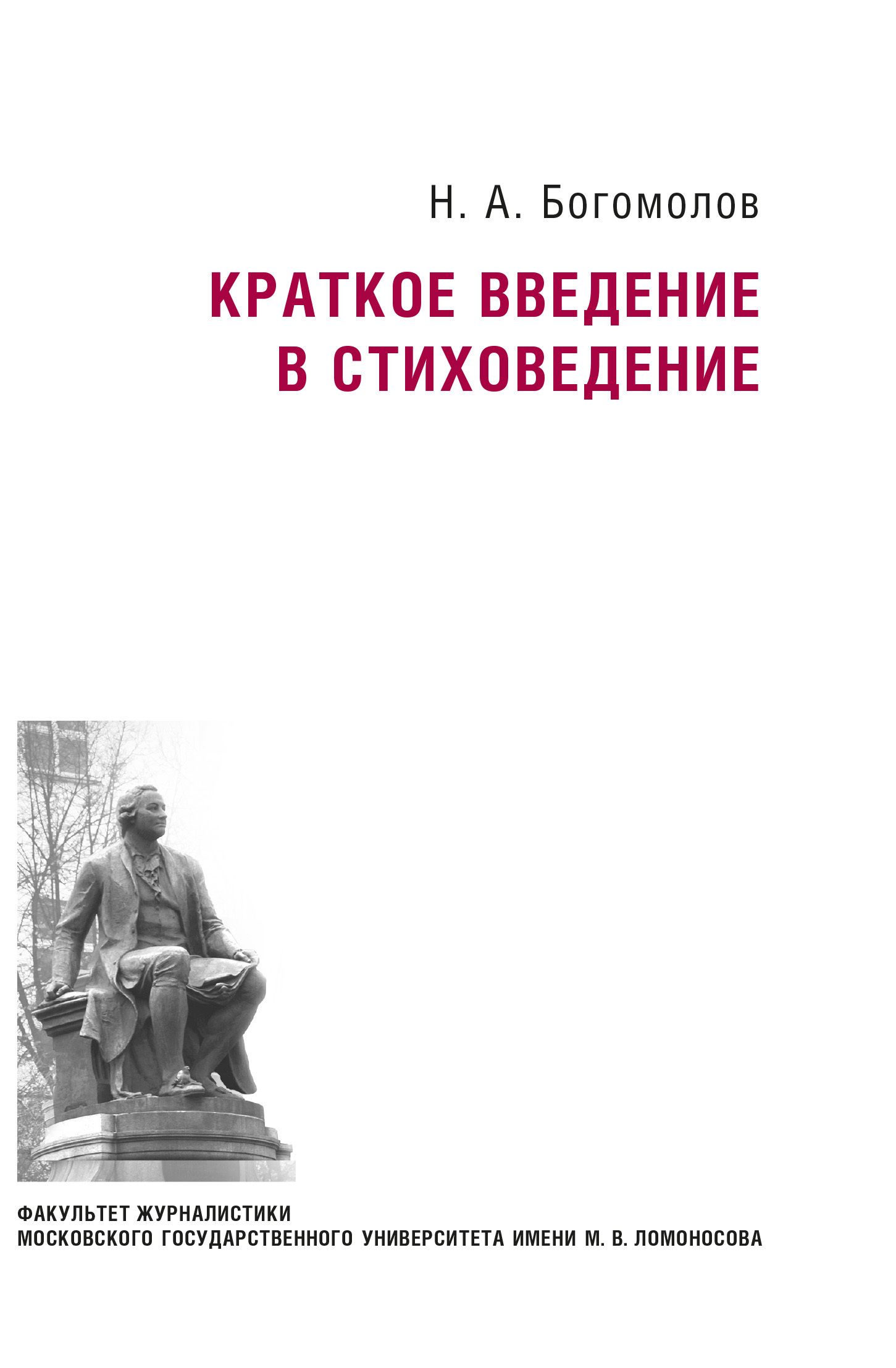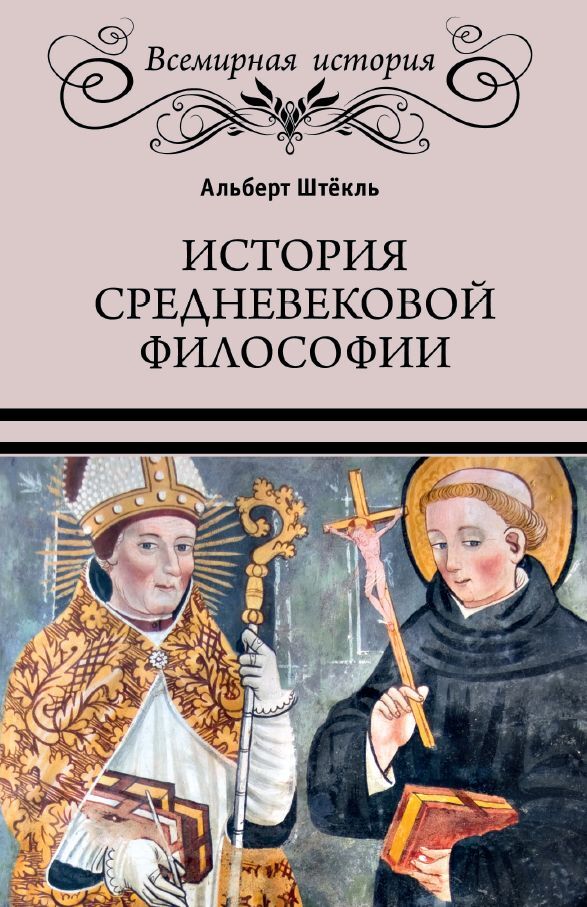и жизнь; верующий в Меня, даже если он уже и умер, воскреснет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовеки» [Соболев 2020: 774].
В отличие от политической империи у Гольдштейна, в романе Соболева встает образ экзистенциальной империи. Это первый роман, серьезно и честно осмысляющий и выражающий судьбу советско-постэмигрантского сознания, в экзистенциальном плане – «Война и мир» русско-израильской литературы. Роман непохож на предыдущие произведения Соболева, но в то же время и очень близок к ним в главном: в нем возникает архипелаг идей и идеологий, поступков и состояний, ни одно из которых, говоря словами романа, «не имеет оправданий» [Соболев 2020: 760]. Это также и история вины предыдущих поколений, лишивших поколение 1970-х «ключа», тайны и уверенности в подлинности истины и чести, эпическое полотно об эпических же заблуждениях. Соболев создает такую полифонию, в которой всякий раз голос рассказчика кажется настолько убедительным и искренним, что требуется усилие воли, чтобы осознать в полной мере калейдоскоп ненадежных рассказчиков, как и в его предыдущих романах, причем гипнотическое воздействие романного эпического стиля еще больше усиливает эту иллюзию.
В итоге все же можно выделить несколько философем, стоящих за пестрым полотном мелькающих мнений, стереотипов, веры, иллюзий и ощущений. Главным человеческим достоинством, сохраняющимся и во времена советского застоя, и в бесконечно текучем постсоветском постмодернизме, является мужество, стойкость; главное же общественное достоинство состоит в способности людей как группы остановиться в марше безликости, безумия и слепоты; свобода, столь чаемая и безнадежно искомая в предыдущих романах Соболева, наконец достигнута и обрушена на головы освободившихся, к ним приходит понимание того, что «свобода для одних – это почти всегда боль для других» [Соболев 2020: 240], и поэтому единственным достойным применением ее может быть стойкость бытия и противостояния дегуманизации, попытка докричаться до самих себя в прошлом, чтобы одуматься и не оказаться в «ледяной пустыне» в будущем [Соболев 2020: 771]; без такой, и только такой, реализации свободы не может быть воскрешения, не может быть найден ключ, невозможно возвращение к истоку. Непринадлежность и тишина, ключевые просветленные состояния героев предыдущих романов Соболева, сменяются причастностью к «невероятному движению» народов, вслушиванием в «голос времени» и в «шум истории» [Соболев 2020: 324]. Редкие попытки героев сбежать от мира (fuga mundi), спрятаться от «шума времени» и услышать «незамутненный живой звук тишины» [Соболев 2020: 669–670] мимолетны и безуспешны. Даже когда герои перестают «ощущать себя частью окружающего мира» [Соболев 2020:405], решают «не участвовать» в мире, например Полина [Соболев 2020: 411], это происходит как «переживание истории», как попытка преодолеть «ослепление и самообман» [Соболев 2020: 405], свойственные настоящему. Причина этого состоит в обретении свободы, пусть и в форме той силы, которая во всех произведениях Соболева является квинтэссенцией одновременно истории и рока – в форме хаоса. Реализм данного романа подтверждает ту концепцию, разрабатываемую сегодня философами спекулятивного реализма, согласно которой реально лишь то, что ускользает от восприятия, находится по ту сторону конечности, как империя, как скрытое покровом тайны имя предка, давшего потомкам жизнь и всегда выживающего, но тем самым и сминающего своим непреходящим бытием их хрупкое личностное существование.
Героям романа изредка удается прикоснуться к этой тайне: таков эпизод, когда Полина рассматривает икону Казанской Божьей матери: «это было так, как будто времени больше не существовало. Что-то неясное приоткрылось и в прошлом, и в будущем, но, самое главное, приоткрылось в том, что не было и не могло быть ни прошлым, ни будущим» [Соболев 2020:204]. Здесь, как того можно было ожидать, миф об отмене времени, затаенная мечта, выраженная во многих упоминавшихся выше произведениях, соединяется с мифом об империи как о том невыразимом реальном, что служит основой теопоэтического переживания вечности в бытийной глубине телесности: «она стояла и задыхалась, чувствуя свое тело до самых потаенных мышц, и одновременно почти что не чувствуя его вовсе. “Неужели так выглядит вечность”, быстро подумала она, а потом одернула себя» [Там же]. Этому реальному противопоставлено реальное «реальной» жизни, которое раскрывается Полине во время поездки по русской глубинке:
Ей хотелось коснуться этой чудовищной настоящей жизни, вдохнуть ее, понять, какова она изнутри; Поля думала о том, сколь болезненным является это желание, что никакого такого реального не существует, а существуют только несчастные люди, обделенные и пьяные, и от этих мыслей желание пережить реальное становилось только сильнее [Соболев 2020: 235].
Эти два на первый взгляд противоположных переживания диалектически едины: «как будто времени больше не существовало» и «никакого реального не существует», вечность и чистое бытие – и то, и другое невыразимо, лишено дискурсивного измерения. Таково, по крайней мере, восприятие человека империи, которому неожиданно открывается знание о том, что собой представляет его империя: соединение «эфемерных городов» [Соболев 2020:236], «наваждение» [Соболев 2020:237] несуществующего или неуловимого настоящего, отсутствие прошлого и будущего.
Суть этого реального имперского наиболее сжато выражена в словах Арининого дедушки, относящихся к стихотворению Р. Киплинга «Песня Римского Центуриона»:
Дедушка объяснил ей, что стихотворение написано в форме популярного в период королевы Виктории «драматического монолога», рассказал, как важно для таких поэтических монологов держать ритм, не комкать текст и расставлять паузы в нужных местах.
– Это была культура империи, – добавил он. – А империя живет невысказанным.
– Почему? – спросила Арина.
– Почему что?
– Почему невысказанным?
Дедушка задумался.
– Наверное, потому, – после паузы ответил он, – что о том, что выше быта говорить сложно, а часто почти невозможно [Соболев 2020: 101].
Нельзя не заметить, что главная максима в этом отрывке – «империя живет невысказанным» – не вполне следует из предшествующих слов о ритме и паузах и не аргументируется предложенным дедушкой объяснением. Объяснение, скорее, ослабляет пружинистую мощь этой максимы, адаптируя его, в целях подчинения сюжету, к детскому восприятию. Однако подлинным развернутым ответом на вопрос Арины «почему?» является сам роман. «Невысказанное™» есть не только известная надмирность или надбытность имперского сознания и не только еще более известная имперская таинственность как форма устрашения и подчинения воли подданных, но та стоящая за дискурсом и вне его, придающая ему форму «имматериальность» [Харман 2018], которая не позволяет свести реальность объектов к их материальному, конечному, инструментальному существованию. В этом смысле империя есть форма существования мира «после конечности». Ведь не любая ритмическая поэзия является выражением «культуры империи», но лишь та, для которой ритм перестает уже быть способом организации материи, разделения звучания на конечные временные фрагменты, перестает вообще быть, а превращается в гипнотический транс, трансцендирующий читателя или декламатора, в данном случае Арину, за пределы собственного бытия, заставляющий ее перестать