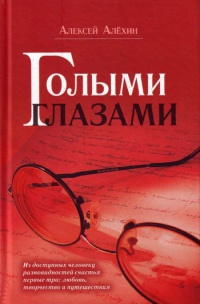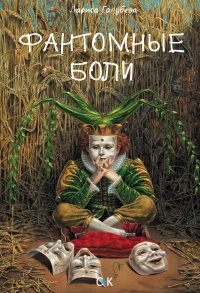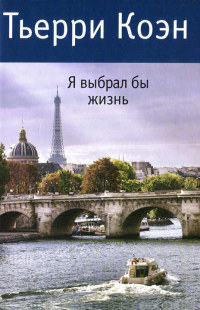Отец же, казалось, не переживал вовсе. Со свойственной ему педантичностью соблюл все необходимые процедуры, на похоронах не проронил ни слезинки, на поминках выпил единственную рюмку, сдержанно и без эмоций принимал соболезнования…
Ночью он закрылся в своей комнате, погасил свет и лег спать. Алексей не спал, лежал, заложив руки за голову, и думал, как же можно так обыденно переносить уход того, с кем прожил двадцать лет? От мыслей его отвлекли донесшиеся из-за стены звуки, похожие на глухое рычание собаки, переходящее в отрывистый лай. И, холодея, он вдруг понял, что это плачет отец – его железный отец, никогда не позволявший себе никаких внешних проявлений личных чувств.
Утром, когда Лешка вышел из комнаты, отец уже стоял перед зеркалом в ванной и расчесывал металлической расческой с ровными частыми зубцами свои густые волосы. Лешка обомлел: всегда жгуче-черные, как и у него самого, сейчас они были белыми. Отец поседел в одну ночь. И там, где он проводил расческой, волосы прядями падали на пол, оставляя некрасивые залысины…
Не только новой жены, но и просто другой женщины у отца так и не появилось. Алексей не знал, встречался ли он с кем-то на стороне, но в дом, где жили, никого не приводил ни разу, обозначив таким образом, что дом этот – их, семейный, и любой другой, кто войдет в него – чужой. А чужому здесь не место.
Но и уход матери не сблизил их, не смягчил обоюдных чувств. Они продолжали жить все в той же квартире, переживая одиночество вдвоем. Правда, недолго – Алексей поступил в летное и переехал на казенные харчи. Отец не писал ему никаких писем, лишь раз в месяц присылал посылки с самым необходимым и с вложенной запиской, которая всегда начиналась и заканчивалась одинаково: «Здравствуй, Леша, как успехи в учебе» и «До свидания, успехов в учебе».
Как казалось Алексею, отец всегда был им недоволен. Ну, или доволен не до конца: и когда он окончил летное на одни пятерки, и когда как отличник отправился в элитные погранвойска, единственный среди выпускников курса. Словно, что бы ни сделал Алексей, – все изначально было недостаточно хорошо. Отец не понимал его, точнее даже – не хотел понимать. И вот это было обиднее всего, ведь отец и сам был таким!
Принципиальный, честный до дыр в кармане, всего себя отдававший работе, служению людям, выпертый на пенсию раньше срока новым руководством как раз за принципиальность и неумение выслуживаться, именно он должен был понимать сына лучше других, именно ему должны были быть ясны и близки мотивы Алексея. Но ни словом, ни взглядом он ни разу не показал, что одобряет сына. Наоборот, смотрел так, словно сын опозорил и его тоже, не оправдал надежд.
И что бы ни происходило в жизни Алексея, он знал: отец не встанет на его сторону. Даже аргументов искать не будет, просто априори ответ будет один – сам виноват. И он не делился с ним ничем, не раскрывал душу и не ждал поддержки. И сейчас никакой радостной встречи он не ждал. Спасибо, если хоть не выгонит.
Все получилось примерно так, как и предполагал Алексей. Он вошел в солидный московский двор, огляделся, пытаясь вызвать внутри воспоминания детства. Монументальными колоннами уходили вверх дома сталинской застройки, туда же, в небо, стремились остроконечные стройные тополя у подъездов. Когда Лешка был маленьким, тополя тоже были худенькими, низенькими, а теперь окрепли, вытянулись, раздались вверх и вширь, достигая пятого этажа.
Немного постояв, Алексей направился к подъездной двери. Она все та же – старая, массивная, даже домофоном не оснащена по современным правилам… Потянув на себя ручку, Алексей вошел в темную прохладу подъезда, поднялся по ступенькам к квартире и остановился. Насупленным взглядом посмотрел на кнопку звонка, внутренне готовый к неласковому приему.
На душе снова стало муторно, тошнотворной волной поднялись недавние воспоминания о мерзости ситуации, в которой оказался не по своей воле. Алексей отдернул уже занесенную руку от кнопки и отошел. Опустился на ступеньки, положив рядом свою потрепанную сумку, и приготовился ждать. Он знал, что отец обязательно выйдет из квартиры вынести мусор. Он делал это регулярно, ежедневно – не терпел, когда в ведре накапливались отходы выше чем на треть.
Ждать пришлось долго, не меньше часа. Наконец дверь открылась, и из нее показался отец – с предсказуемым мусорным мешком в руках, сосредоточенный, будто совершал очень серьезное дело. Взгляд его сразу натолкнулся на Алексея. Не поздоровался, даже не кивнул, прошел к мусоропроводу молча, словно мимо пустого места, аккуратно выбросил черный пакет, ухнувший вниз с булькнувшим звуком, захлопнул металлическую крышку. Алексей в этот момент невольно почувствовал себя такой же вот горсткой мусора, без сожаления сброшенной в помойку.
Ни слова не сказав, отец вернулся в квартиру, лишь дверь оставил открытой – молчаливый сигнал, разрешение на вход. Скрепя сердце Алексей вошел следом. Выбора у него не было.
Отец прошел на кухню, не спрашивая согласия, налил из большой кастрюли тарелку супа, острым складным ножом крупными ломтями нарезал черного хлеба, поставил все это перед Алексеем, резко резюмировав:
– Ешь!
Прозвучало как приказ, но спорить Алексей не стал: он был голоден как волк, из военного городка уехал без копейки в кармане, выложив все скопленные сбережения в счет убытков по злополучным джипам. Спасибо, Пашка-командир подкинул на дорогу, иначе вообще неизвестно как до Москвы бы добрался, впору зайцем на электричках…
Алексей сидел за столом и с жадностью уминал холостяцкий суп с пережаренным луком, особенно налегая на свежий с хрустящей коркой хлеб. Когда голод потихоньку улегся, не без любопытства скользнул взглядом по комнате. Скромная обстановка их небольшой квартирки, в которой всегда было тесновато, не поменялась. Та же мебель, купленная в восьмидесятые годы прошлого века, даже лампа с темно-зеленым абажуром на столе отца та же.
Алексей усмехнулся. Гениальный авиаконструктор, дизайнером отец был никудышным: стены комнаты он увешал снимками самолетов, чертежами, своими фотографиями на фоне крылатых машин, в цехах, кабинетах и прочих производственных местах.
Отец не смотрел на Алексея. Он сидел за старенькой со стершимися желтоватыми буковками на кнопках печатной машинкой, перед которой лежали кипы бумаг. Машинка эта тоже была родом из прошлого, как и допотопный громоздкий телевизор, транслирующий новости. У Алексея потянуло слева, под сердцем. Он ощутил, как соскучился по дому, по этой простенькой, но все же родной, до боли знакомой домашней атмосферы, соскучился по отцу…
Несмотря ни на что, Алексей любил отца. И сейчас, глядя на него, согнувшегося над машинкой, он вдруг ощутил, как сдал, состарился отец. Это был уже не широкоплечий, пышущий здоровьем мужчина, а пожилой одинокий и не слишком счастливый человек. Ему вдруг стало жаль отца, захотелось неожиданно вопреки всякой логике сказать ему что-то ободряющее, простое, искреннее, сыновье. Но отец на Алексея не глядел. Он уткнулся в свои бумаги, перебирал листы, шевелил губами.
Алексей перевел взгляд на экран. Трансляция шла без звука, и смешно было наблюдать за тем, как водит руками ведущий, беззвучно открывая рот, будто рыба. Их движения были схожи с отцовскими.