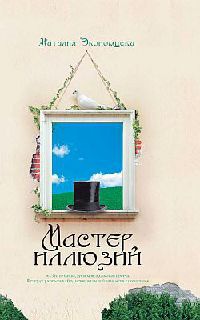Все это были новые для Пиздодуева звуки, слышать которые раньше, в бытность поэтом, Степану не доводилось. И сейчас, когда рухнула тишина и шум городской суеты наполнил Степана, он подумал: «Неужели так было и прежде? Возня? Беготня? Набитое чужой жизнью пространство?»
Разбуженная паутинка дорог вздрогнула — и понеслась. Дороги расползались по сторонам, как трещины по стеклу. Другие, наоборот, стекались к Степану, в разгоряченное его сердце. Радость росла, наподобие замешенного на дрожжах теста. Поднималась к макушке. Делалась нестерпимой. И Пиздодуев засобирался: «К людям, туда, к людям!» Он заметался по комнате, не зная, что прежде хватать.
Собаке собачья смерть
И тут, сидевшая сиднем годами, из Пиздодуева выскользнула тоска. Она высколькнула из него прочь, отошла, остановилась, сложив руки-спички на тощеньком животе, в ситцевом шейном платочке и домотканой юбке ниже колен. Глаза у нее были линялые, теперь уж бесцветные, уголки рта вяло опущенные.
«Ну как там, что, мать?» — схватившись за подбородок и в нетерпении озираясь, спросил Степан. «Да ничаво, — с укором ответила гостья и скосила березовый глаз в дальний укромный угол. — Жавем — щчи жаем». Наступила неловкая пауза, так как, несмотря на давнишнее знакомство, ни одной из сторон сказать было нечего.
«Что-то радости в тебе, мать, мало», — сказал наконец Степан, распихивая по карманам штанов лягушачьи шальные деньги. «Это во мне ль радости мало?» — не поверила тетка и даже под юбку зыркнула, нет ли там случайно кого. Но нет, не было. Перетерев обиду голыми деснами и промочив губы платком, она продолжала. «Тоска есть стремление к высшему. Тебе ли не знать (намекнула она). Тоска единения с вечным доискивается, а чуть доищется, возликует. Хошь, пойдем, похлядим?» И тетка протянула Степану ломкую, наподобие ветоши, руку, из которой кольцами на пол посыпалась унылая бельевая веревка. «Ты что ж это, мать, никак удавиться меня зовешь?» — спросил Степан, поспешно завязывая ботинки. «А хошь бы и так, а шо ж тут такого? Дело житейскае», — с вызовом сказала тоска, выставив из-под юбки жилистую корягу. «Ну уж это ты, мать, запоздала. Теперь у меня другое, теперь нельзя». И он прошел сквозь тоску, как сквозь дым. Бабка слегка пискнула, взвизгнула, пернула и рассеялась.
Юрьев день
Степан рванул на себя оконную раму — раз, другой, третий. Полетели со звоном гвозди, вбитые лягушатниками. Точечно вибрируя и искрясь, в комнату ворвался пыльный сноп света, запрыгав по стенам и потолку. Пиздодуев запустил пальцы в вихрастые патлы и вдохновенно вздохнул.
Усевшись на подоконник, расчирикались воробьи. Шумной стайкой пробежали неугомонные школьники. На скамейке о том и о сем судачили старушенции. Под окном шли какие-то люди, тихо и мирно переговариваясь. Москва утопала в ярком полуденном свете. Все казалось простым и надежным, спаянным на века. «Как хорошо-то», — сказал Пиздодуев. И тут.
«Ну что, нашел, что ли?» — спросил один и остановился. «Да нет», — сказал второй, похлопав себя по карманам. «Елки-моталки, какой-то стал ты рассеянный. Дверь ты чем закрывал, чай ключами, не хуем? Значит, были они у тебя», — озлобился первый. «Да вроде, бля, были», — ответил второй, пошарив в карманах еще раз. «Ну вот, Пизда Ивановна, с тобой так всегда, — первый в сердцах даже сплюнул. — Пошли. Когда закрывал, небось, в двери и оставил». Голоса начали удаляться. «Ты, — сказал второй. — А ведь точно, ядрит твою мать!» Ответ первого утонул в стрекоте мотоцикла и в мерных ударах по выбиваемому на трепаке ковру.
У Степана перехватило дыхание. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — пронеслось в голове. Как же мог он забыть? Что-то — неумолимее тоски, смерти, страха — брало верх, и этим «что-то» были они. И тут обрывки разрозненных мыслей зазубрились и плотно прилегли друг к другу. Пиздодуев прозрел.
Сомнения исключались — он, Степан, был частью лягушачьего плана, плана пока не ясного, но грозящего стране катастрофой. Стихи! Им были нужны стихи! Так вот оно что! Идиот! Понаписал всякой дряни — и что же теперь, в кусты? Ну, это уж нет! Степан показал кукиш прямо в кармане. И — дальше: Грозное оружие в руках палачей — вот в чем беда! Но как же они им воспользуются? Думай, голова, думай! Быстрее! Итак, первое, дело сделано и теперь — живым он им больше не нужен.
Побег
До второго уже не дошло. Пиздодуев как ошпаренный отскочил к стене. Покачнулась стопка над головой, но не посыпалась, устояла. Волны прошли по книжным рядам, уткнувшись в наружную дверь. Ловя пустоту в том месте, где прежде торчала дверная ручка, Пиздодуев услышал, как с той стороны поворачивают в замке ключ. Он развернулся на каблуках, опрометью рванулся обратно к окну и — выпрыгнул.
Благо его квартира помещалась над палисадником в бельэтаже. Степан отпружинил от тугого куста, приземлился и, уже на бегу, отодрал от штанов прицепившийся сзади репейник.
Он знал, что времени у него мало и что, если не предпринять должных мер, завтра все будет кончено, и он будет мертв. Пиздодуев увидел Колонный зал Дома союзов, где он когда-то стоял в карауле в ногах у великого Закидайло, и свой выплывающий из дверей на плечах лягушатников, покачивающийся над головами гроб. Он увидел толпы народа, который запруживал площади, улицы, влезал на столбы и машины, чтобы крикнуть поэту последнее отчаянное «прощай»; и отовсюду — из репродукторов, со сцен и трибун — лились его строки, которые подхватывались на лету, повторялись на все лады, пелись заунывными голосами, точно молитва. У Степана защемило в груди и помертвел затылок.
Ввиду государственной важности уже случившегося и того, что неминуемо должно было за этим последовать, Пиздодуев рванул прямо в Кремль. Но за первым же поворотом, засандалив лбом в стеклянную стенку киоска «Табак Пресса Табак», он столкнулся нос к носу с лягушачьим лицом, которое по-отечески кротко улыбалось Степану с первой страницы газеты «Вся Правда». — «Нет, пожалуй что и не в Кремль», — подсказал внутренний голос. И Пиздодуев метнулся на мостовую, призывно, точно регулировщик, размахивая руками. Скользя по асфальту лысыми шинами, с писком притормозила черная «Волга».
В первую тачку, мало ли что, Пиздодуев не сел. «Сквер у Большого театра», — задохнулся Степан, плюхнувшись на сиденье седьмой по счету машины.
Инородцы
Эта мысль там, у киоска, пришла ему сразу. Другого выхода не было. Расплатившись с шофером, Пиздодуев украдкой, из-под бровей, обвел сквер глазами. Дети, плещущиеся в фонтане. Вяжущие старушки. Несколько шахматистов на разных скамейках, в ожидании партнеров скучающих перед досками. Да один осоловелый мужик, который, как показалось Степану, косил под пьянь. Подсев к мужику, Пиздодуев начал издалека. «Здравствуйте, — сказал он, глотая слова в волненье. — Все, что я вам сейчас… крайне важно… речь идет о спасении отечества и шире…» Шахматисты насторожились. Мужик, мотнув башкой, обвел вокруг Пиздодуева мутным взглядом; в лицо Степана он не попал и, не возобновляя попыток, поник головой, потеряв к Пиздодуеву интерес. «Пожалуйте сюда, ко мне, ко мне», — со значением показывая на доски, на по-разному ломаном русском начали зазывать его мнимые шахматисты.